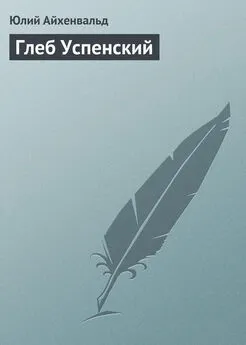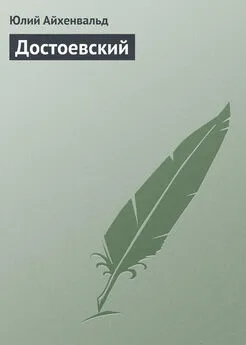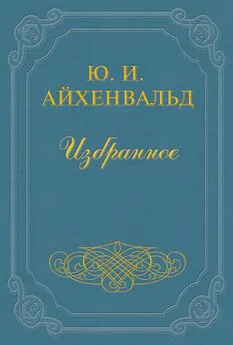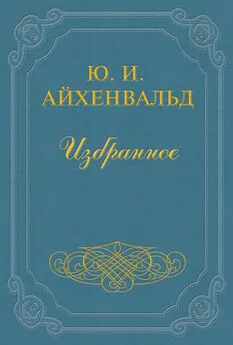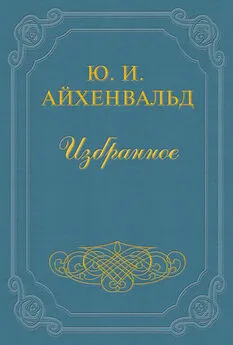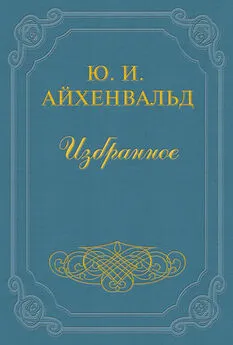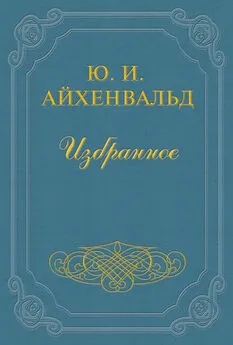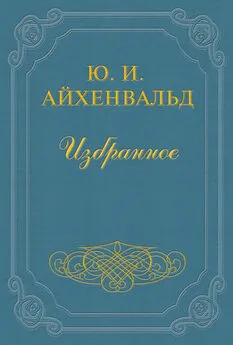Юлий Айхенвальд - Глеб Успенский
- Название:Глеб Успенский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлий Айхенвальд - Глеб Успенский краткое содержание
«Одинокое и оригинальное место, которое занимает Глеб Успенский в нашей литературе, прежде всего характеризуется совершенно необычной формой его произведений. Его духовное наследие велико, он написал очень много, но только редкие из этих бесчисленных страниц образуют законченное целое. Он не только не оставил нам ни одного романа или повести, но даже и небольшие цельные рассказы его тонут в массе отрывков и набросков, в бесконечной веренице отдельных сцен и эпизодов…»
Глеб Успенский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На спокойном фоне земледельческого мировоззрения нормально протекает и семейная жизнь, слитая с жизнью мирской. Муж и жена связаны единством интересов, которые оба они почерпают из черных недр земли. Женщина работает в полной гармонии с природой, с солнцем, с ветерком, «с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым слиты ее тело и ее душа». Успенский вообще с лаской и нежностью относится к печальнице – крестьянской женщине, и ему приятно, что она «вся живет только живым, живьем, вся находится в плену живой растущей травы, живого зеленеющего поля, живой квокчущей птицы, живых мычащих телят». Только сознание, больное сознание русского человека, может разрушить этот мир с природой, это тихое существование, обвеянное стихиями. Именно когда наступает чреватый злополучием досуг урожая, время работающего сознания, крестьянин вспоминает свою «ужасную, черную, темную жизнь, весь этот мрак сорокапятилетней маяты», вспоминает он и ту «единственную, светлую, удивительную радость жизни», которая была связана с именем Аннушки, первой любви. И он в сонном бреду называет это имя, и растет глухая тревога ревности в душе его жены, и, быть может, во всем этом уже наливается кровавый колос будущей драмы: вот что сделал досуг, вот к чему привело раздумие, прервавшее стихийную полосу жизни, поднявшееся над властью земли, Микулы Селяниновича…
Конечно, Глеб Успенский, покорив человека земле, запретив ему работу сознания, на этом не мог успокоиться. Как ни велика власть стихии, не она является для него последним убежищем чувства и мысли. Над природой он ставит любовь. Он говорит, что в природе хотя и все – правда, все честно, «но не все в ней ласково». А человеческого он без ласки, без любви не понимает, не принимает. В лесу, на горе, звучат веселые «птичек хоры», ночью он молчалив и торжествен, – между тем и в то время, когда он молчит, и в то время, когда он весь поет и зеленеет, живое каждую минуту поедает в нем живое, и слышится писк, от которого «щемит то заячье, то овечье, то птичье сердце». В лесу человеческого общества происходит то же самое; здесь тоже господствуют зоологические, лесные законы, но вопль людей еще ужаснее, потому что это поедают друг друга существа разумные. Никто не виноват в этом взаимном уничтожении, но душа все-таки содрогается, потому что над нею властвует правда не зоологическая, а божеская. И Глеб Успенский с неослабным вниманием следит за тем, как в людском лесу появляются Родионы-радетели, которые хотят претворить эгоистическое сердце человека в сердце всескорбящее, хотят «объютить» страдающих людей, – и они успевают в своем благородном стремлении. Глеб Успенский не хотел примириться с зоологической правдой, «с железными законами» жизни, – он не верил в железо, не преклонился перед железным букетом, который немецкие патриоты когда-то поднесли своему знаменитому канцлеру. От «железных фиалок», от «свинцовых ландышей» он звал к живым цветам, к живой любви. Он слишком знал, что в мире происходит «ежедневный и ежегодный посев жестокости», но в этой неумолимой атмосфере, под натиском гнетущих впечатлений, умел он спасти свое сердце от железа. Иногда, правда, душа его от «обилия и безрезультатности страдания», от всяких гибелей и разорений как-то деревенеет, запирается точно на замок; но под замком она, общительная и отзывчивая, долго быть не может. И когда он видит, например, как мужик кладет холодными руками на холодном ветре холодные и грубые поленья и ветер царапает его по лицу своим тупым лезвием, – в глубине души у него «разверзается что-то горячее, как огонь, и разливается жаром рыданий». И хочется оплакать и «неустанные труды этих неустанных рук, и холод изб, и тьму ночей с бьющимся от страшного сна ребенком, и жестокость этого же мужика к родному брату». Жалобные звуки гуслей пробудили сострадание в одном герое Успенского, жившем среди ожесточающей обстановки. Но чаще жалость возбуждается не этими механическими средствами – она приходит от людей, от Родионов, от Парамонов, от «чутких сердец». Вот священник и дьякон, похожие на «одушевленные кошельки»; они думают, что вселенная – это не более чем вместилище разного рода крупных и мелких денег, и как только какая-нибудь планета, т. е. «какая-нибудь монета, вращающаяся во вселенной», попадает к ним, они довольны и счастливы. И вдруг, как Парамон-юродивый, является пред ними учительница Абрикосова. Она покинула богатство, почет и спокойствие и пришла в деревню учить крестьянских ребятишек. Она за ними ухаживает, она спрашивает одного из них: «Хочешь, я тебя буду любить?..» – «Ну, люби, когда хошь», – великодушно отвечает мальчик… Ради чего же она это делает и как примирить ее делание, ее жертву, с ясной житейской философией одушевленных кошельков? Примирить нельзя, и дьякон испытывает глубокое недоумение и потрясение, которое всколыхнуло его сердце, затянувшееся было тиной равнодушия. Абрикосова сделала то, что в темной ночи его духа «пробежали какие-то зарницы», и он заболел великой болезнью, к счастью неизлечимой, – заболел совестью и мыслью. Ее же пережил и тот сибирский злодей, который, как дядя Влас, пришел в ужас от самого себя, от своей злобы. И совестливая мысль вообще носится по России. «Тихими-тихими шагами, незаметными, почти непостижимыми путями пробирается она в самые не приготовленные к ней души. Среди, по-видимому, мертвой тишины, в этом кажущемся безмолвии и сне, по песчинке, по кровинке, медленно, неслышно перестраивается на новый лад запуганная, забитая и забывшая себя русская душа, а главное – перестраивается во имя самой строгой правды». И когда она перестроится, тогда на центральное маховое колесо общества будет наложен приводный ремень, и «отдельные колесики, которые теперь вертятся без устали и без толку» придут в разумное движение, и люди-атомы соединятся в стройное целое, в единое содружество, чтобы вместе побороть прежде всего ненужное, излишнее неблагообразие жизни.
Оптимизм Успенского, его незыблемая вера в грядущее благообразие, в то, что современное изуродованное и приниженное человечество выпрямится, – эта вера поддерживается у него тем, что он и теперь, в окружающей действительности, видит отдельные явления красоты. Когда он с «деревянным» благоговением рассматривал мастерскую художника, он вдруг остановился перед одной картинкой и не мог от нее отойти – она его не пускала («словно я зацепил карманом, как иногда бывает, за ручку двери»). На картинке была изображена девушка лет пятнадцати-шестнадцати, гимназистка или студентка, которая бежит с книжкой на курсы или на урок, в пледе и мужской круглой шапочке. Его пленила та не женская и не мужская, а общечеловеческая светлая мысль и печаль не о своем горе, которой дышало лицо молодой девушки; очаровала его эта духовная красота. Потом он увидел ее, эту девушку, или ее духовную сестру, живою. Однажды черной ночью, в дождь и ветер, забрел он в какой-то огромный парк и скоро очутился перед громадной развалиной старинного барского дворца. «И в парке темно, и пусто во дворце – только ветер ревет и воет, раскачивая огромные деревья. Куда идти?» В самом деле, – куда идти Успенскому черной ночью, среди пустынных развалин? Но, обойдя руину с другой стороны, он заметил огонек, который светился в полуразрушенной каморке. Там сидела молодая девушка, сельская учительница, и поправляла детские сочинения на темы: «Как я раз испужался» и «Как я раз расшибся». Завязался простой разговор между нею и Успенским, а в это время в комнату вбежала деревенская девочка, закутанная в платок и с высокой палкой в руке. «Я у тебя, Алексеевна, – сказала она учительнице, – ноне ночевать не буду… мне надоть пьяных и прохожих по дворам разводить. Отец-то хмелен, а очередь наша, так вот я вместо отца-то». Родная сестра, видимо, некрасовского мужичка-с-ноготок… Да, ей трудно учиться, бедной девочке; в другом месте Успенский рассказал, как ее ругает бабушка за то, что она тайком готовит свои уроки при свете жалких, но все же дорогих огарков. Ей трудно учиться, ее трудно учить, и все-таки она учится, и все-таки девушка в каморке старого дома учит ее. В углу развалины с тетрадками и сказками именно она, сельская учительница, зажгла для Успенского тот приветливый огонек, который указывает дорогу заблудившемуся путнику. И в черной окружающей тьме светится этот огонек, потому что девушка, как новая весталка, самоотверженно блюдет его и не дает погаснуть – хоть это и мучительно тяжело в нашу русскую непогоду и неурядицу. И Глеб Успенский утешен этой светлой девушкой, и, как он сам говорит, ему становится хорошо и легко на душе, на его измученной душе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: