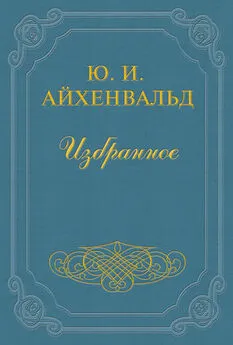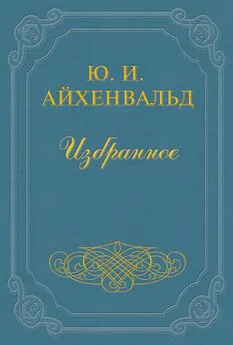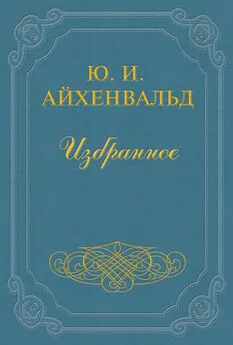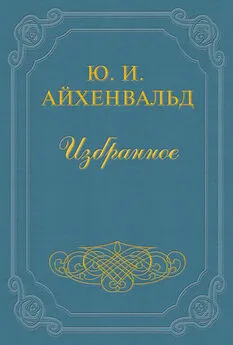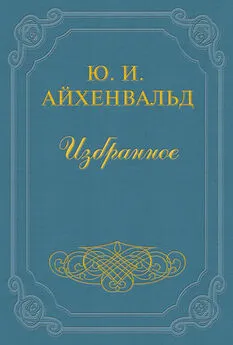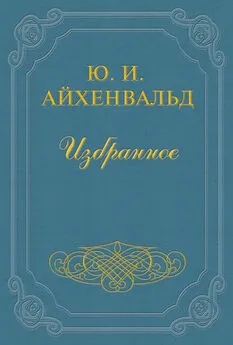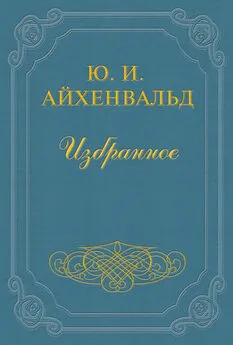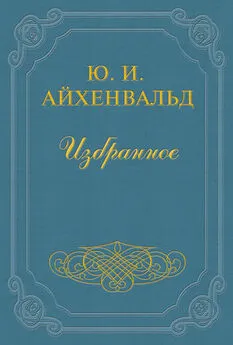Юлий Айхенвальд - Писемский
- Название:Писемский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлий Айхенвальд - Писемский краткое содержание
«Известно, что Писемский ведет свое духовное происхождение от Гоголя: „Мертвые души“ и „Тысяча душ“ объединены не только сходством заглавия, но и внутренними особенностями литературной манеры. И здесь, и там – картины быта, яркость жанра, сатирические приемы, физиология русской общественности. Калинович соблазнам богатства подпал не в меньшей степени, чем самозваный помещик Чичиков, владелец мертвого. Правда, Калиновича автор потом возродил, сделал его, в должности вице-губернатора, энергичным искоренителем зла, но и тогда не освободил его от сухости сердца, не говоря уже о том, что обновление героя оказалось так же неубедительно и неудачно, как и попытка Гоголя нарисовать положительные образы…»
Писемский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Юлий Исаевич Айхенвальд
Писемский
Известно, что Писемский ведет свое духовное происхождение от Гоголя: «Мертвые души» и «Тысяча душ» объединены не только сходством заглавия, но и внутренними особенностями литературной манеры. И здесь, и там – картины быта, яркость жанра, сатирические приемы, физиология русской общественности. Калинович соблазнам богатства подпал не в меньшей степени, чем самозваный помещик Чичиков, владелец мертвого. Правда, Калиновича автор потом возродил, сделал его, в должности вице-губернатора, энергичным искоренителем зла, но и тогда не освободил его от сухости сердца, не говоря уже о том, что обновление героя оказалось так же неубедительно и неудачно, как и попытка Гоголя нарисовать положительные образы. У обоих писателей эстетически живы почти только мертвые, а живые эстетически мертвы. Оба они бледнеют, когда идеализируют, и только реализм возвращает им жизненную силу. Замечательно, что Гоголь это не вполне и не всегда сознавал, между тем как Писемский отдавал себе ясный отчет в недостатках своего великого учителя, косвенно – и своих и хотя не отрешился от них сам, но умел смотреть на себя правильно и понимал, где он, Писемский, начинается и где кончается. Это видно, между прочим, и из той критики, которой меньший подверг большего, Писемский – Гоголя. Именно догоголевскую и допушкинскую словесность автор «Тюфяка» осуждает за то, что в ней царило «направление напряженности, стремление сказать больше своего понимания, выразить страсть, которая сердцем не пережита, – словом, создать что-то выше своих творческих сил». И следы этой напряженности и неестественности он видит и у самого Гоголя: в его ранних пейзажах, в его олеографических женских портретах (Аннунциата, полячка из «Тараса Бульбы», Улинька), в его сочиненных мужских образах (Костанжогло, Муразов). Гоголь не удержался в пределах своей художнической компетенции, стал меньше себя как раз потому, что хотел стать больше себя; в этом обвиняет его Писемский, для которого так характерно это требование – не говорить больше того, что понимаешь, жить по средствам, сообразоваться с мерой уделенных тебе творческих сил. Честный, трезвый, почитатель здравого смысла, теоретик практичности, никого и ничего не прихорашивающий, создатель Ионы Циника и даже родственник ему, Писемский хочет держаться на уровне жизни, не любит ее волнений, ее моря – особенно взбаломученного; себе на уме, на большом житейском уме, лукавый и язвительный, способный к юмору, он уверен, что совсем заглушил в себе романтика и поэта, что никакие иллюзии не обманут его, что лицом к лицу стоит он с самой реальностью. Снимая с пьедестала других, он не становится на него и сам; когда, своеобразно смешав себя с кругом своих героев и себя же выведя под собственным именем (он вообще действительности не разрешил бы псевдонима), он заставляет Софи разговаривать с m-r Писемским, то, не напрашиваясь на комплимент, искренне говорит о себе: «моя неуклюжая авторская фигура». Ему в самом деле свойственна какая-то писательская неуклюжесть: приземистый, не только знаток земли, крепкий земле, но и данник ее тяжести, мастер крестьянской речи, в литературу ходок от мужиков, несентиментальный заступник их горькой судьбины, уважительный к ним, но ими не ослепленный, не потакающий им ни в их смешном, ни тем менее в их страшном, пристыдивший в их среде снохача-батьку, готовый обменяться с ними крепким словцом, вообще – сопричастный психологическому циклу нашего национального ругательства, здоровый в своей грубости, никогда не пресный, но с солью, не слишком тонкой, не аттической, Писемский так самобытен, так народен и кряжист, что своими писаниями он родной стихии точно оброк платит. Дворянин по происхождению, но крестьянин по духу, непосредственный и нецеремонный, он именно поэтому и не мог быть изящным, утонченным, и светских манер в литературе от него требовать нельзя. Мужик нашей словесности, он пил жизнь прямо из пригоршни, не брезговал мутным, не гнушался и памфлетом; насмешливый, иногда и желчный, снабженный острым чувством анекдота, он, может быть, чрезмерно изобличал, слишком заглядывал в пошлость, но во всяком случае постоянно держался только своего инстинкта, не знал никакой предвзятости и сетовал на тех писателей, которые не сами живут в жизни, «втянутые в ее коловорот за самый чувствительный нерв», а наводят о ней предварительные справки и «отбирают показания» от сведущих лиц. Резкий и решительный, Писемский зато и чужд был по отношению к своим сюжетам и героям всякой косвенности и обиняков.
Но вот, сознавая границы своего дарования, которое больше всего сказывалось там, где он сочной кистью писал русскую характерность, сцены быта, простые фигуры простых людей, Писемский за эти пределы все-таки выходил, иной раз нажимал педаль, мелодраматизировал вообще, нарушал требования своего же эстетического кодекса. И это неудивительно, потому что дно его живого таланта всегда было видно и родник его творчества иссякал: его доставало для эпизодов, для отдельных образов, для разрозненных глав, но для больших и цельных построений, для художественной законченности – естественных богатств оказывалось мало. И слабой выходила архитектура иных произведений, растянутых и вялых, и не отличала их проникновенность и глубина, и много лишнего, и неценного, и сочиненного сохранилось в наследии Писемского.
Такая непоследовательность, и скудость, и нарушение собственной заповеди, воспрещающей сочинять, – это недостаток, разумеется. Но есть у него и такая непоследовательность, которая является достоинством. Пристальнее вглядываясь в «неуклюжую авторскую фигуру» Писемского-реалиста, писателя-практика, мы замечаем, что романтизм он в себе поборол, но не поборол совсем. Романтик поневоле, где-то в последней глубине идеалист неисправимый, хранитель чистых ценностей – вот кто жил в Писемском, под его грубой и житейской оболочкой. Бытописатель чиновничества и сам по карьере своей чиновник, он очень настаивает на том, что «по разного рода канцеляриям… в этих плешивых, завитых и гладко стриженных головах, так прилежно наклоненных над черными и красными столами, зачахло и погребено романтизму и всякого рода иных возвышенных стремлений никак не меньше», чем в других профессиях. И хотя он определяет театр как «искусство не быть самим собою», но романтику сцены принимает очень близко к сердцу и окрашивает ею многие свои страницы, и все возвращается к Шекспиру. Он живет литературой, литературными интересами, вносит их в самую фабулу своих рассказов; в «Старческом грехе» сильное впечатление производит эта панихида по только что убитом Пушкине; «студенты почти навзрыд плакали»… «ну, панихидка, не лицемерная… не фальшивая!» – говорит священник, кончив службу и пожимая руку то у того, то у другого из студентов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: