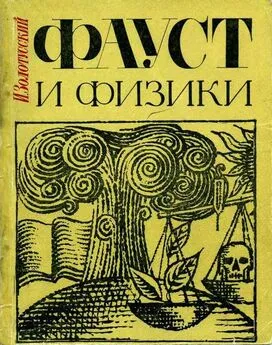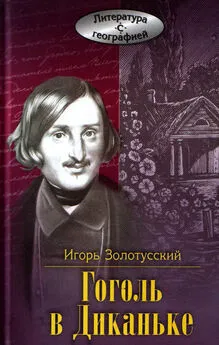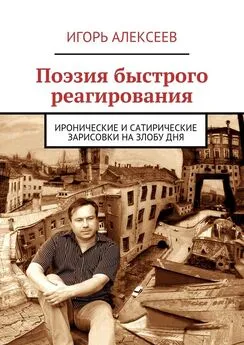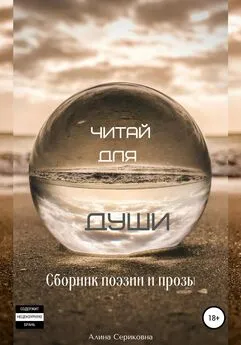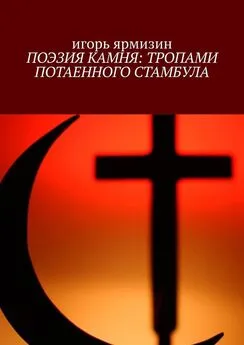Игорь Золотусский - Поэзия прозы
- Название:Поэзия прозы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Золотусский - Поэзия прозы краткое содержание
Автор — известный критик и исследователь Гоголя. В собранных здесь статьях он вводит читателя в художественный мир гениального русского писателя. Заново прочитывая произведения Гоголя — «Ревизор», «Мертвые души», «Коляска», «Записки сумасшедшего», «Тарас Бульба», пересматривая некоторые устоявшиеся в критике взгляды, автор как бы приглашает читателя к спору.
Поэзия прозы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эпос Гоголь ставит на первое место в литературе. «Величайшее, полнейшее, огромнейшее и многостороннейшее из всех созданий… есть эпопея». И еще: «Весь мир на великое пространство освещается вокруг самого героя, и не одни частные лица, но весь народ, а часто и многие народы, совокупясь в эпопею, оживают на миг и восстают в таком виде перед читателем, в каком представляет только намеки и догадки история». Частые ссылки на Гомера мелькают во всех статьях Гоголя. Гомер для него образец поэзии он объемлет все. «Весь погаснувший древний мир является у него в том же сиянии, освещенный тем же солнцем, как не погасал вовсе». Эпос не только возрождает жизнь, он соперничает с жизнью, он сам — материализованная жизнь человеческого духа, который и не погасал вовсе.
В творениях Гоголя есть эта тяга к Гомеру — с великой эпопеей великого грека сравнивали гоголевские «Мертвые души». Это давало повод критикам подшучивать над тем, что между Гомером и Гоголем действительно есть что-то общее: их фамилии начинаются на Го.
Гоголь объяснял идею «Мертвых душ» как идею триптиха, в котором должны были быть свои «Ад», «Чистилище», и «Рай». Лирические отступления в поэме он считал первыми бликами солнца, пробивающимися в темноту первого тома. Сам ритм поэзии, получавшей гомеровский разбег, разбег российского гекзаметра, как бы выводил героев ее с темной стороны на светлую, распахивал перед глазами читателя простор, «пространство мира», куда уносилась не только бричка Чичикова, но и мечта Гоголя. Идеальное вмешивалось в реальное, смешивалось с ним. Впрочем, оно смешивалось также и в прежних творениях Гоголя. Героев Гоголя всегда тянуло на свет, поближе к свету — как тянет Акакия Акакиевича под огни фонарей, как тянет на Невский героев «Невского проспекта» (хотя и лжет Невский проспект). Хлестаков в «Ревизоре» получает неожиданную свободу волеизъявления, свободу фантазировать и сочинять — и в парах его воображения рождаются гомеровские образы, и сам Хлестаков вырастает в фигуру «богатыря», богатыря-враля, если можно так выразиться. В его вранье есть масштаб. А Бульба! Он не хочет сидеть дома, он рвется в степь, он хочет пасть в этой степи, скрестив саблю с ляхом или татарином.
Я сознательно беру две противоположные фигуры, две, казалось бы, несоизмеримые величины в мире Гоголя — меж тем они по-своему эстетически равновелики, как предмет смеха Гоголя и восторга Гоголя.
Для Гоголя-критика, оправдывающего это отношение к человеку, нет разделения на людей крупных и мелких. Гоголь в мелком видит крупное, ищет крупное. Он называет его «необыкновенным» и в статье «Несколько слов о Пушкине» (программной для него), формулирует эту задачу как задачу романтического реализма, ставящего себе в идеал равновеликость человека и мира, который утратила новейшая цивилизация. Он выступает в начале «раздробленного» (это его определение) девятнадцатого века как певец утраченной цельности, как поэт, который хотел бы вернуть миру и человеку разорвавшуюся между ними связь.
Эту задачу он ставит перед каждым своим героем — поэтому и в малых формах Гоголь не теряет эпического замаха. Поприщин у него (с сумасшедшей мечтой о спасении Луны) не менее значим, чем Бульба, а майор Ковалев, производя сотрясение в своей судьбе утерею собственного носа, производит сотрясение во всем петербургском колоссе.
Статья «Несколько слов о Пушкине» написана в 1832 году, когда Гоголь был лишь автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Но в ней заложен фундамент его эстетической веры. Это и солидаризация с Пушкиным, и спор с Пушкиным. Спор неосознанный, непрямой, спор-защита Пушкина от толпы, и тем не менее — спор, выявление своего кредо, своей поэтической самостоятельности. Защищая Пушкина от читателя, который не понял перевода поэзии Пушкина от романтических тем к прозе жизни (когда тот спустился с гор Кавказа в грешный русский мир). Гоголь пишет, что какой-нибудь «горец», конечно, ярче какого-нибудь судьи «в истертом фраке, запачканном табаком», но оба они — явления нашего мира и стоят равного внимания поэзии.
Позже Гоголь выйдет за пределы искусства, превратив его в чистую «исповедь», создаст новый эпический жанр литературы — жанр, который, по его мнению, должен оправдать высшее назначение поэзии — стать «нечувствительной ступенью к христианству». В этом смысле он выступит и с призывом преодолеть Пушкина. «Нельзя уже теперь и служить самому искусству, — напишет он в статье „В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность“, — как ни прекрасно это служение, не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство? Нельзя повторять Пушкина. Нет, ни Пушкин и никто другой должен стать в образец нам — другие уже времена пришли».
Гоголь откажется и от пушкинской независимости, пушкинской суверенности по отношению к читателю. Он разорвет этот «заколдованный круг» и выступит за пределы его, презрев язык «живых картин» и «живых образов». Исповедь сольется с проповедью, голоса Гоголя уже нельзя будет отличить от голосов его героев, он сам станет героем своей книги.
Я имею в виду «Выбранные места из переписки с друзьями». Книга эта как политическая, так и философская, как поэтическая, так и критическая. Львиную долю статей в ней составляют статьи об искусстве и людях искусства — о Пушкине, Карамзине, Жуковском, А. Иванове, Языкове и о самом Гоголе. В ней напечатаны «Четыре письма разным лицам по поводу „Мертвых душ“», статья о русской поэзии, о лиризме русских поэтов, об «Одиссее», переводимой Жуковским, «Исторический живописец Иванов», «О том, что такое слово» и т. д. Тут уже не отдельные мысли и наброски Гоголя и даже не эстетический свод мнений Гоголя, который он выстроил в «Арабесках», а слово поэта по всем вопросам.
В статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» Гоголь определяет три истока русской литературы: народные песни, народные пословицы и духовное слово церковных пастырей. К этому он прибавляет свет европейского просвещения, который хлынул в Россию с реформами Петра и пал на самобытную русскую почву. Свет этот лишь разбудил те силы, которые дремали в ней, придал старине обработку новизны — он был толчком, а не творцом.
Сам Гоголь тоже захватил этого света, может быть более, чем другие, хотя в позднем Гоголе это влияние исчезает и выступает осязаемо влияние отцов церкви. Знакомство Гоголя с книжной культурой христианства, постоянное чтение Евангелия, житий святых и других церковных писаний сказались и на слоге и образе мышления второй редакции «Портрета», «Тараса Бульбы», второго тома «Мертвых душ». Оно сказалось и на взглядах Гоголя на литературу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: