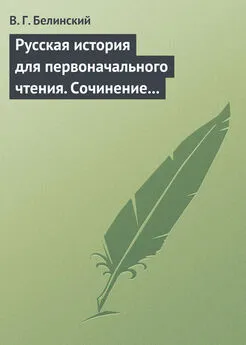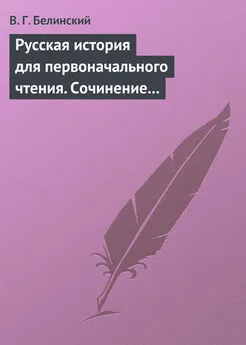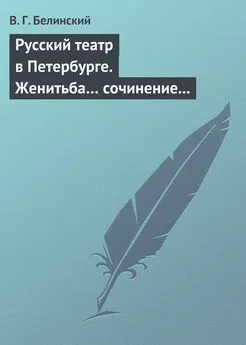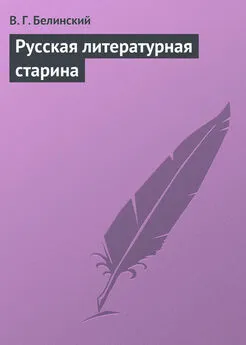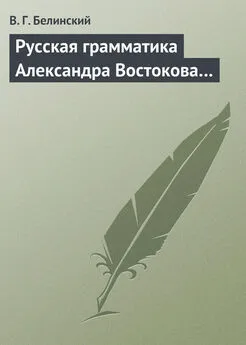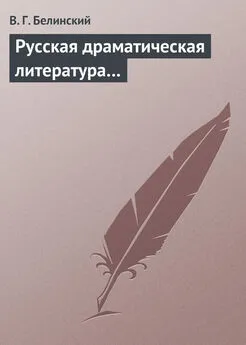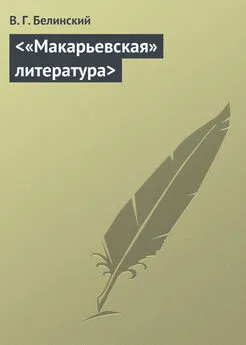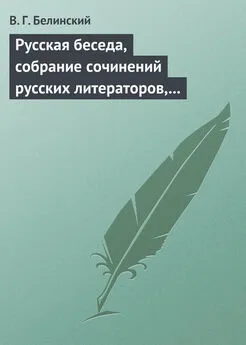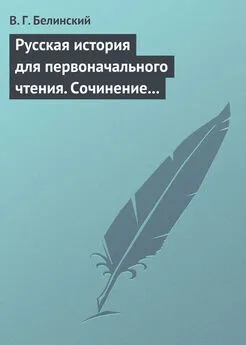Виссарион Белинский - Русская литература в 1843 году
- Название:Русская литература в 1843 году
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виссарион Белинский - Русская литература в 1843 году краткое содержание
Белинский начинает с утверждения, что литература находится в состоянии кризиса, книг выходит так мало, что нечего читать. Некоторые объясняют создавшееся положение тем, что толстые журналы поглощают книги. Критик определяет причины «кризиса» литературы значительно глубже. Дело в том, что читатель сороковых годов предъявляет к литературе более высокие требования, чем читатель двадцатых годов. И «литературные сокровища» той эпохи теперь уже не могли бы никого удовлетворить. За два десятилетия русская литература совершила громадный скачок в своем развитии.
Русская литература в 1843 году - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Может быть, некоторые скажут, что у нас литература еще не весьма богата и не может удовлетворить всем требованиям общества; что критика еще не найдет обильного для себя поля и что ею заниматься рано. Но правда ли, что мы так бедны? Для чего обижать самим себя! Мы уже имеем превосходных писателей почти во всех родах словесности. Один Державин представляет огромнейший, разнообразный сад для ума и вкуса разборчивого! Кому не приятно внимать величественной лире Ломоносова? Кто откажется следовать за Богдановичем в очаровательные чертоги Амура? или, оживясь патриотизмом, стремиться на крылах пламенных за важным Херасковым под твердыни казанские, к грозным пожарам Чесмы! Но на что, возразят, касаться сих почтенных имен? Они уже освящены общим мнением! – Странное благоговение к мужам великим, – Думать, что мы делаем им честь, когда не смеем заглянуть в их сочинения, но смеем сказать об них ни слова! Такого рода уважение похоже на набожность китайцев, благоговеющих перед старыми своими книгами, которые, будучи неприступны для ума просвещенного, остаются корыстию мышей и времени! И у нас есть китайцы в сем смысле! Для чего ж и для кого трудились сии великие писатели? Хотели ль они быть полезными будущему поколению? Если хотели, то дали право разбирать свои сочинения! И кого ж другого почтить разбором, как не их? Только твердые камни полируются; слабые и легкие не стоят и не выносят полировки.
«Странное мнение имеем мы о критике! Дитя не смотрит только на подаренные ему куклы, но их раскладывает, дает им места, разговаривает с ними; хороший библиотекарь не кидает книг в кучу, но дает им порядок, знает каждой цену и достоинство; садовник так же поступает с своими любимыми цветами и деревьями; он пользуется от трудов своих. Почему же мы, имея такие сокровища на языке российском, хотим знать их только по имени или, что еще хуже, повторять об них чужие мысли, часто неверные? для чего самому не иметь своего мнения, самому не наслаждаться? Мне докажут, что мнения мои ложны, – отступаюсь; но я человек и имею право – мыслить. Но у нас мало писателей! Итак, хотите ли, чтоб их число умножалось? Будьте к ним внимательнее, или то же, разбирайте их; от этого они умножаются и скорее достигают совершенства. – Умножаются — почему? Внимание публики возбуждает соревнование. Увидев, что истинное достоинство отличено, слабость обнаружена, увидев, сколь почтенно выйти из обыкновенного круга людей, всякий захочет испытать силы свои на столь блистательном поприще. Покажите важность искусства: атлеты не замедлят явиться. Я сказал: скорее достигают совершенства; писатель не достигнет его, если публика не в силах или не хочет судить об нем; ибо в руках публики – его награды; она раздражает его честолюбие и возбуждает к великим усилиям. Равнодушие наше – убийство словесности. Публика и писатель друг друга награждают: писатель дает ей пищу; она его образует; один доставляет ей удовольствие, другая венчает его славою! Свидетели той и другой истины – все просвещенные государства Европы. Ни в какое время не было у них столько хороших писателей, как при царствовании критики».
Итак, на что жаловался умный литератор и что силился он растолковать назад тому ровно тридцать лет, на это же можно жаловаться и это же должно объяснять – теперь!!. Вот как быстро и шибко подвигается вперед наше литературное образование!.. Сказано, что Державин велик: так зачем вам знать, как, чем и почему он велик; а если он велик, какие же у него могут быть недостатки? Чтоб узнать, почему он велик и какие в нем есть недостатки, надо его читать, изучать, думать о нем; а чтоб знать, что он велик и никаких недостатков не имеет, для этого не нужно прочесть ни одной его оды, что ведь гораздо легче! Так думают, хотя и не так говорят. И напрасно бы вы стали доказывать, что хотя Гомер и Шекспир и несравненно выше Державина, однакож и они, оставаясь попрежнему великими гениями, все-таки для нас не то, чем были в свое время, ибо жизнь неистощима в проявлениях творческой силы, и всякое время должно иметь свою поэзию, соответствующую требованиям этого времени. Вас не будут слушать, ибо требуют слов, а не идей, детских споров за имена, а не объяснения значений этих имен. «Как! – кричат вам, – пересчитывая знаменитых наших писателей, вы имя Жуковского поставили после имени Батюшкова; – конечно, Батюшков был человек с талантом, но все же нельзя его равнять с Жуковским!» Или: «вы Пушкина поставили на одну доску с Баратынским!» При этих криках остается только заткнуть уши; вы видите, что вас не поняли, вашим словам придали детское значение, о котором вы и не думали, – и вам невольно становится стыдно собственных своих слов, и вы лучше хотите, чтоб вам приписывали какие угодно нелепости, нежели оправдываться и объясняться. Вы, например, сказали, что есть два рода великих поэтов: одни, с печатью олимпийского происхождения на челе, изображают мир как он есть, принимая его действительное состояние, во всякий данный момент, за непреложно разумное: и таков был величайший представитель этого рода поэтов – Шекспир, и к такому разряду поэтов принадлежит наш Пушкин; другие, недовольные уже совершившимся циклом жизни, носят в душе своей предчувствие ее будущего идеала; таков был величайший представитель этого рода поэтов – Байрон, и к такому разряду принадлежит наш Лермонтов. Вы сказали это для того, чтоб обозначить характер и дух поэзии Пушкина и поэзии Лермонтова, понимая всю неизмеримость расстояния, разделяющего великого мирового поэта Шекспира от великого русского поэта Пушкина, и громадного Байрона от безвременно погибшего юноши; а вам кричат: «Ого! вот как! Пушкин наравне с Шекспиром, Пушкин – Шекспир, а Лермонтов – Байрон!»… Что тут говорить! Все важное так легко сделать смешным в глазах толпы, которая не вникает в дело и увлекается плоскою шуткою… Вот еще пример детскости понятий в русской литературе о критике: сколько литераторов, сколько критиков писало, пишет и, вероятно, еще долго будет писать, что дело критика – гладить по головке всякого писаку, в надежде, что авось-либо выйдет из него гений или талант, что строгая критика может убить возникающий талант, а о таланте-де нельзя судить по первому произведению. Напрасно станете вы возражать на это, что истинного призвания не убьет никакая критика – ни строгая, ни снисходительная, ни пристрастная, ни ложная; что не убиваются ею, особенно теперь, даже посредственность и бездарность и что не стоит жалеть о таланте, струсившем, по самолюбию, первого сурового приговора критики, ибо дороги таланты, а не талантики…
Но не будем вдаваться в крайности. Смешно было прошлое добродушное самохвальство русской литературы, которая так смело мерялась силами с любою европейскою литературою и на французскую даже смотрела с презрением, живя и дыша, в то же время, займами у нее; так же смешно может быть и отчаяние за русскую литературу. Будем смотреть на то, что есть, смело, не прикрашивая действительности мечтами и призраками, но будем смотреть на нее без ненависти и страха. У нас есть немного, – это правда, но есть же; не будем преувеличивать того, что имеем, но не будем и отказываться от того, что есть у нас. Наша литература началась с 1739 года (от появления первой оды Ломоносова), и для каких-нибудь ста четырех лет мы имеем даже много, если не будем считаться, словно с ровнями, с европейскими литературами, которые развились веками. Но важнее всего то, что наша юная, возникающая литература, как мы заметили выше, – имеет уже свою историю, ибо все ее явления тесно сопряжены с развитием общественного образования на Руси, и все находятся в более или менее живом, органически последовательном соотношении между собою.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: