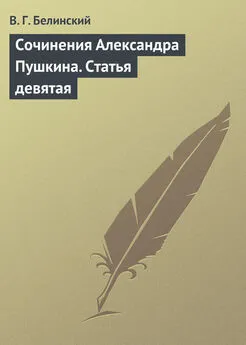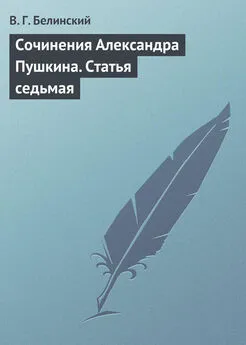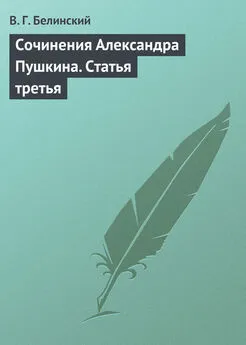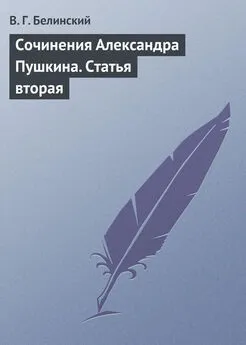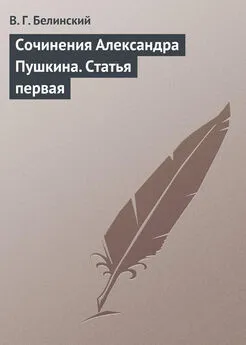Виссарион Белинский - Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая
- Название:Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виссарион Белинский - Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая краткое содержание
С Пушкина начинается самобытная русская литература. Белинский вскрывает историческую закономерность появления оригинальной русской поэзии: «Пушкин явился именно в то время, когда только что сделалось возможным явление на Руси поэзии как искусства. Двенадцатый год был великой эпохою в жизни России. По своим последствиям он был величайшим событием в истории России после царствования Петра Великого. Напряженная борьба насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, которых она дотоле сама в себе не подозревала».
Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
Но все остальное в этой пьесе как-то резко отзывается тоном декламации и несколько напряженною восторженностию, под которой скрывается более раздражения, чем вдохновения. Впрочем, и тут много оригинального, что было до Пушкина неслыхано и невидано в русской поэзии, как, например, выражения: осужденный властитель, могучий баловень побед, изгнанник вселенной, для которого настает потомство, обесславленная земля, своенравная воля, блистательный позор и тому подобные.
Отчасти то же можно сказать и о другом превосходном произведении Пушкина – «Андрей Шенье», которое помещено во второй части и было написано уже в 1825 году. {32}Пять куплетов, которыми начинается эта элегия, сильно отзываются декламациею, которая совсем не в натуре пушкинского духа и которая показывает, как долго удерживалось на нем влияние воспитавшей его старой школы русской поэзии. Конец этой пьесы тоже несколько натянут: но середина, от стиха: «Не узрю вас, дни славы, дни блаженства» до стиха: «Ты, слово, звук пустой» – исполнены всей очаровательности пушкинской поэзии.
Есть еще стихотворение, которого мы с умыслом не поименовали, чтобы поговорить о нем особенно: это – «Демон», пьеса, которая, при своем появлении, поразила всех изумлением по глубокости высказанной в ней мысли и по совершенству художнической формы… Сказать ли?.. Эта пьеса теперь пережила свою славу, и время изрекло над ней свой суд. Есть что-то простодушно-юношеское в ее выражении, и теперь нельзя без улыбки читать этих, некогда столь дивных стихов:
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь.
и проч. Сам этот демон, который прекрасное звал мечтою, презирал вдохновение, не верил любви и свободе, насмешливо смотрел на жизнь, – сам он теперь давно уже поступил в разряд демонов средней руки, – и теперь совсем не нужно быть демоном, чтоб от души смеяться над тою любовью, тою свободою, над которыми он смеялся. Словом, этот страшный тогда демон теперь страшен разве только для слишком юного чувства и неопытного ума: сердца возмужалые и умы опытные теперь уже не страшатся и другого демона, пострашнее пушкинского. {33}Но о «демоне» мы еще будем говорить.
Предлагаемая статья есть не что иное, как только введение в статьи собственно о Пушкине. Мы имели в виду показать историческую связь пушкинской поэзии с поэзиею предшествовавших ему мастеров; старались охарактеризовать Пушкина, как только еще ученика в поэзии. Предоставляем судить нашим читателям, до какой степени успели мы в этом. Главный труд наш еще впереди, и статьи о Пушкине будут продолжаться в «Отечественных записках» будущего года; за ними последуют, как было обещано, статьи о Гоголе и Лермонтове. Многие, может быть, недовольны, что эти статьи долго тянутся и беспрестанно прерываются статьями посторонними. Такой упрек был бы не совсем основателен. Задуманный и начатый нами ряд статей нисколько не принадлежит к разряду обыкновенных и случайных журнальных критик: это скорее обширная критическая история русской поэзии; а такой труд не может быть совершен наскоро и как-нибудь, но требует изучения, обдуманности, труда и времени. В лучших иностранных журналах иногда ряд статей об одном предмете тянется не один год, и публика нисколько не в претензии за эту медленность. Оценить критически такого поэта, как Пушкин, – труд немаловажный, тем более, что о нем мало сказано, хотя и много писано. Обыкновенно восхищались отдельными местами и частностями или нападали на частные недостатки, – и потому охарактеризовать особенность поэзии Пушкина, определить его значение, как поэта русского, показать его влияние на современников и потомство, его историческую связь с предшествовавшими и последовавшими ему поэтами, – значит предпринять труд совершенно новый. Как мы выполним его – не наше дело судить о том; по крайней мере, мы хотим делать, что можем и что обязаны, взявшись за издание журнала. Несовершенство труда извинительно; но нет оправданий для лености и равнодушия к благородным, важным интересам и вопросам, – равнодушия, происходящего или от невежества, или от корыстного расчета, или от того и другого вместе..!
Сноски
1
«Искусство поэзии». – Ред.
2
Стих Лермонтова. {34}
3
Злодее. – Ред.
4
Богданович.
5
Жеманство. – Ред.
Комментарии
1
См. примеч. 285. ( текст примечания : «Стихотворение «На смерть Кутузова» (1813) было написано не А. С. Пушкиным, а его дальним родственником Алексеем Михайловичем Пушкиным (1771–1825). Впервые в печати А. С. Пушкин выступил с стих. «К другу стихотворцу» в «Вестнике Европы» за 1814 год (ч. LXXVI, кн. 13, стр. 9–12).»
2
Это вступление к «Бове» (1814) действительно напоминает начало «Ильи Муромца» Карамзина. Однако оно было напечатано в издании 1841 года с большими цензурными купюрами. Так, например, после стиха:
«Опасался я без крил парить» —
следовало:
«Не дерзал в стихах бессмысленных
Херувимов жарить пушками,
С сатаною обитать в раю
Иль святую богородицу
Вместе славить с Афродитою:
Не бывал я греховодником!»
После стихов:
«Отыскал я книжку славную,
Золотую, незабвенную» —
у Пушкина следовало, определенное указание, что речь идет об «Орлеанской девственнице» Вольтера:
«Катехизис остроумия —
Словом, Жанну Орлеанскую».
Без этих слов создавалось впечатление, что Пушкин называл «золотой» и «незабвенной» балладу Карамзина. Представление о подлинных симпатиях лицеиста Пушкина искажалось еще и вследствие того, что были опущены стихи, в которых наряду с Вольтером было упоминание о А. Н. Радищеве:
«О Вольтер, о муж единственный!
Ты, которого во Франции
Печатали богом некиим,
В Риме дьяволом, антихристом,
Обезьяною в Саксонии!
Ты, который на Радищева
Кинул было взор с улыбкою,
Будь теперь моею музою!
Петь я тоже вознамерился,
Но сравняюсь ли с Радищевым?»
3
В издании 1841 года опущены следовавшие за этим местом стихи:
«Рассыпался на грудь и, может, под платок
И даже, может быть… о сладость вожделенья…
До тайных прелестей, которых сам Эрот
Запрятал за леса и горы,
Чтоб не могли нескромны взоры
Открыть вместилище божественных красот».
Интервал:
Закладка: