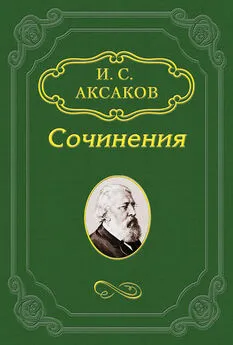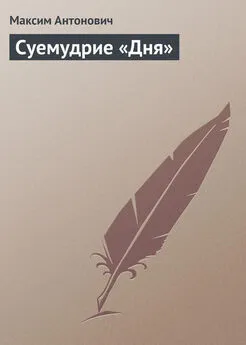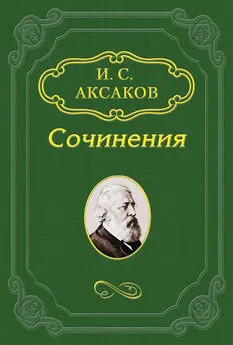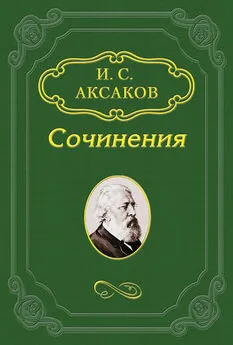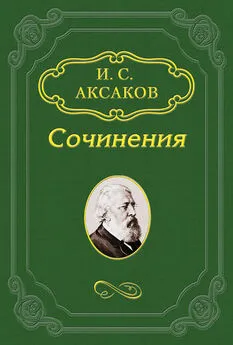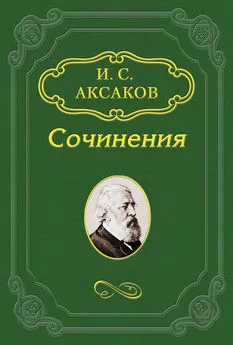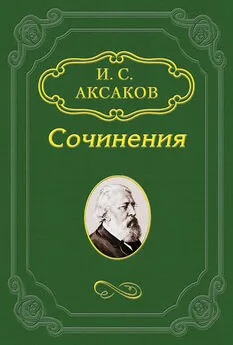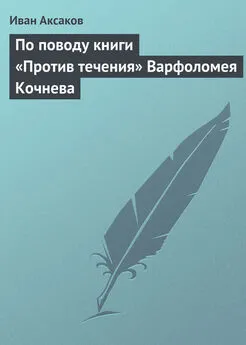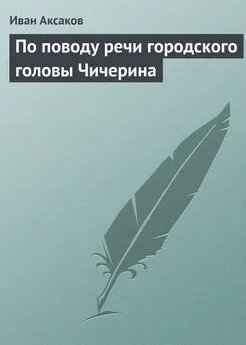Иван Аксаков - По поводу статьи г. Антоновича «Суемудрие „Дня“»
- Название:По поводу статьи г. Антоновича «Суемудрие „Дня“»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Аксаков - По поводу статьи г. Антоновича «Суемудрие „Дня“» краткое содержание
«Давно уже ничему мы так серьезно не радовались, как появлению в печати, в октябрьской книжке «Современника», статьи г. Антоновича, под названием: «Суемудрие „Дня“». Сама статья не представляет в себе ничего серьезного; напротив, она преисполнена неумышленного комизма, и мы смело рекомендуем ее всем нашим читателям: она доставит им много веселых минут. Мы охотно бы даже, для их забавы, перепечатали ее на столбцах нашего журнала, если б она не была так велика…»
По поводу статьи г. Антоновича «Суемудрие „Дня“» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этою-то тайною дерзостью, вместе с выражениями низкой лести и явного лицемерия в отношении политическом и религиозном, была наводнена наша литература до самого последнего времени. Новое Положение о печати, при всем своем несовершенстве, уже видимо содействует к очищению нашей литературы, к водворению в ней правды и искренности. Торжество правды выражается уже в том, что ложь начинает приподнимать свой покров и является в той своей наготе, которая так благотворно мерзит каждому неиспорченному сердцу. Торжество правды состоит или будет состоять уже в том, что все наконец, честно и искренно, не лицемеря, – обнаружат, где и на какой стороне, в области мнений и убеждений, они стоят, кто кому враг, с кем каждый имеет дело. Само собой разумеется, что только тогда эта свобода печати имеет смысл, когда выраженное, хотя бы и без цензуры, мнение не ведет за собою никаких последствий в гражданском смысле. Мы не видим, почему, например, человеку, искренно неверующему, нельзя было бы заявить об этом печатно, не подвергаясь суду или иного рода преследованиям? Что за дело государству до того, верит ли такой-то литератор или не верит в Бога, если он исполняет исправно все свои гражданские обязанности? Область совести не есть область государства: церковь может отлучить его от общения с собою, государство может, при выборе людей, не назначать его на такую должность, где образ мыслей имеет непосредственное участие; затем оно должно, напротив, способствовать тому, чтоб все эти мнения выставлялись на белый день, на общественную критику, чтоб они не уклонялись от полемики и не избегали явного поражения. Если страх наказания заставит неверующего прикидываться, печатно и вообще публично, верующим, то от этого в убытке только сама истина, сама церковь, а не кто другой: обличение неверующего делается неудобным, потому что никому не хочется попасть в доносчики и подвергать человека уголовному взысканию за заблуждение мысли и совести, – а между тем прикрытая и огражденная маскою, ложь тем удобнее производит ту тайную, неуловимую пропаганду, которой не в состоянии помешать никакое правительство в мире. Еще недавно было в ходу постановление (мы думаем, что оно отменено, но не знаем наверное), что всякий православный чиновник обязан был непременно представлять своему начальству удостоверение в том, что он исповедывался и приобщался. Это отмечалось в формулярном списке, и за несоблюдение этого правила виновный подвергался строгим взысканиям, дурным аттестациям, а иногда и удалению от службы. Особенно ревностно наблюдали за исполнением со стороны подчиненных сих «требований службы» – начальники-служаки из немцев. Случалось не раз, что иной честный человек, придя к священнику, прямо объявлял ему, что он ни во что не верит, что ум его еще не озарен истиной, а до тех пор он кривить душой не намерен и потому предпочитает открыть ему правду, но что он, тем не менее, просит священника или приобщить его для виду, или же выдать «удостоверение». Такого человека следовало бы священнику немедленно отлучить от церкви, но может ли он решиться на это, имея в виду, что «отлучение» подвергнет отлучаемого преследованию полицейскому, разорит его, ввергнет в бедность его и его семейство. Отказать ему в удостоверении – ведет за собой те же последствия. К тому же этот человек поступил, по крайней мере, честно и несравненно лучше тех, которые, с меньшею серьезностью относясь к своим убеждениям и так же мало веруя, как и он, тем не менее лицемерно исполнили требуемый обряд для того, чтоб заслужить благоволение своего начальства. Спрашивается, что выиграла церковь и государство от такого умножения лицемеров, от такого преобилия кощунства и поругания святыни?
За тем – пусть бдит и бодрствует истина. Пусть не дремлет на лоне квартальных и жандармом, пусть изощряет свое оружие – оружие духа. Ей не страшна никакая ложь, ей оскорбительна всякая мысль о необходимости для ее защиты внешней грубой силы, ибо такая мысль обличает безверие в духовную силу истины. Не так же хрупка истина веры, истина православия, чтоб могла пугаться за свой божественный авторитет, за свою векожизненность – оттого, что какой-нибудь петербургский литературный люстих выступит против нее с своим дешевым балагурством! Но пусть и не люстих, не балагур, а пусть самые серьезные умы выступают во всеоружии знания и мысли против истины и вызывают, таким образом, на ее защиту самые лучшие духовные силы русской земли. Пусть не останется никаких недоразумений, никаких темных углов, где бы могла притаиться ложь, никакого убежища безверию за оградой «разума и науки»: и разум, и наука, в своей свободе, послужат наилучшим оружием для самой истины.
Не в той, конечно, мере, но в некоторой мере может эта точка зрения быть применена и ко многим началам, о которых говорить в печати дело еще довольно щекотливое. Мы разумеем здесь преимущественно начала политические. Почему бы, например, нельзя было бы выражать своей мысли о преимуществах и неудобствах той или другой формы правления, – разумеется покуда эта мысль является как мнение, а не переходит в область действий, воспрещенных законом (например прокламаций, воззваний и т. д.)? Если, например, существующая у нас форма правления основана на недоразумениях, то и при безмолвии печати основание ее ненадежно; если же, как мы и думаем, она основана не на недоразумениях, а на отчетливом и ясном историческом сознании всего русского народа, то свободное обсуждение в печати даст только возможность этому народному сознанию обрести себе искренний, честный орган и в литературе. Благодаря стеснениям цензуры, например, русская политическая форма (как это было долго и с православием) менее всего имеет искренних, свободных, честных защитников в печати не почему иному, как потому, что честный человек не желает сделаться предметом подозрения по своему прямодушию и подвергнуть сомнению независимость своих политических убеждений, – не желает нападать на тех, которые лишены права или имеют возможность прикинуться лишенными права – бороться с ним равным оружием.
Кажется, все это наконец начинает ясно сознаваться теперь и самим правительством. Остается желать, чтоб оно удержалось на той дороге, на которую так благородно вступило, и само вполне прониклось началами той системы, которая выразилась в новом законодательстве о печати. С этой точки зрения мы и радуемся появлению в печати статьи г. Антоновича; это подает нам надежду, что и для нас наконец откроется полная возможность без обиняков и иносказаний полемизировать с нашими антагонистами, в защиту православия и прочих наших политических и нравственных убеждений. Если бы было иначе, если бы, – да простит нам правительство такое дерзкое предположение, – сей самый «Современник» был затруднен в откровенном выражении своих мнений, в то самое время, как он только что начинает быть честным, то есть откровенным, то в результате вышло бы, что мнения «Современника», – которые, будучи высказаны, являются теперь только забавными, приобрели бы, полувысказываемые, несравненно больший авторитет в массе русского, еще до крайности легкомысленного общества, – а мнения, противоположные «Современнику», нашли бы неловким для себя нападать на сей, удостоенный преследования, журнал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: