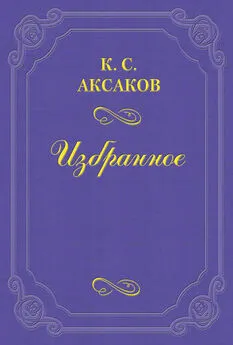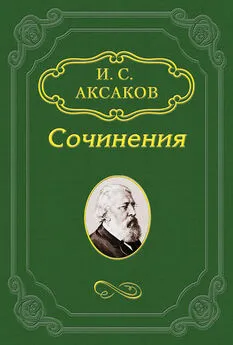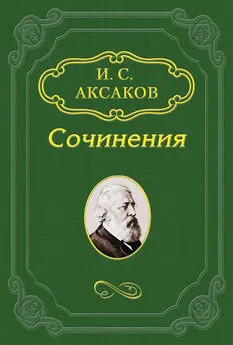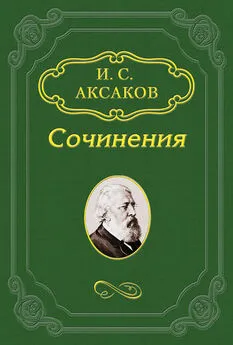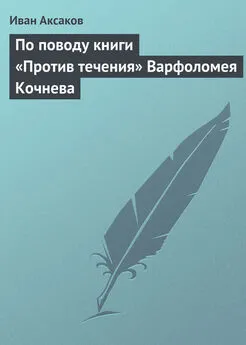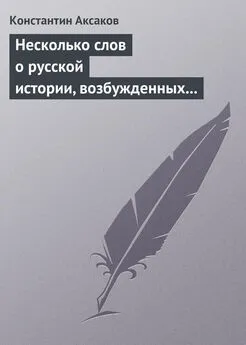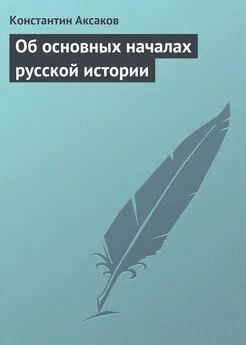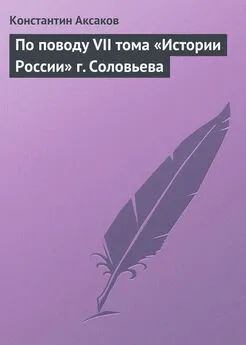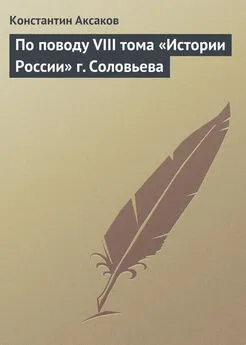Константин Аксаков - По поводу VI тома «Истории России» г. Соловьева
- Название:По поводу VI тома «Истории России» г. Соловьева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Аксаков - По поводу VI тома «Истории России» г. Соловьева краткое содержание
«Перед нами шестой том «Истории России», сочинение даровитого и трудолюбивого московского профессора. Рецензируемый том заключает в себе в высшей степени важную и замечательную эпоху нашей истории. Содержание этого тома – Иоанн IV…»
По поводу VI тома «Истории России» г. Соловьева - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Г., Соловьев говорит, что Иоанн при Сильвестре и Адашеве не терял свободы своих действий, и что, следовательно, честь славных дел, совершенных во время этих советников, не может быть у него отнята. Это справедливо: Иоанн никогда не был слепым орудием, но, с другой стороны, он был под авторитетом Сильвестра и Адашева, – этого отрицать нельзя. Он сам со всей искренностью говорит об этом; он объясняет даже нам, чем держали его в узде: «И еже убо согрешения наших ради приключающихся болезней (т. е. приключающаеся болезни) на нас и на царице нашей и на чадах наших, – и сия убо вся вменяху, аки ради же нашего к ним непослушания сия бываху» [23]. Ум Иоанна, конечно, не вдруг же оказался в нем; он и вначале понимал и ценил все справедливые и дельные советы, принимал их свободно и сознательно, и, конечно, имеет полное право на все доброе в своем царствовании. Если же он, находясь лишь под нравственным авторитетом, имел свободу в выборе (в чем мы согласны с г. Соловьевым, и принимал советы сознательно, то жаловаться ему тут было нечего. Такого рода влиянием Иоанн, конечно, слишком не мог тяготиться. Но тем не менее он тяготился, он был сильно стеснен: это так очевидно высказывается в его словах. В чем же состояло это стеснение? Трудно сказать. Но вероятно, оно было скорее отрицательное. Вероятно, Иоанна удерживали от многих действий, не давали воли его страстям, и конечно, в таком случае грозили погибелью душевной и разорением царства; это видно отчасти из слов Иоанна: «Еже нам сотворити словие – ни единому же от худейших советников его тогда потреба рещи, но сия вся, аки злочестива творяхуся… Ащели же кто раздражит нас чем или кое принесет нам утеснение, – тому богатство, слава и честь, и аще не тако, то души пагуба и царству разореше» [24]. Из этих слов видно, что Иоанну не давали изливать гнев свой на тех, кто, по его мнению, его заслуживал. Очень может быть, что в то же время обращались с ним не с должным почтением или лучше не с тем почтением, какого хотел Иоанн, весь проникнутый идеей о величии царском. Вспомним, что в первой юности Иоанн был уже жесток и предавался страстям, и что во время Сильвестра и Адашева он, следовательно, подавлял свою страшную природу. Очень вероятно, что вид бояр, еще не утративших прежнего значения, еще не привыкших к титулу царя, и быть может (в надежде на влияние свое), позволяющих себе обращаться с царем запросто, – очень может быть, что все это раздражало Иоанна, в особенности же после болезни его, – и он не раз порывался против них, но был от того постоянно удерживаем Сильвестром и Адашевым. Очевидно, что Сильвестр был заступником опальных. Подозрительный и раздражительный Иоанн воображал себя в полной неволе, ему казалось, что его оскорбляют на каждом шагу, держат, как младенца. Обстоятельства, сопровождавшие болезнь Иоанна, могли убедить его в справедливости его подозрений; злой совет мог усилить то, что уже было в его душе. Но и здесь видим мы некоторую постепенность, ибо не вдруг разгорались дикие, свирепые побуждения, постоянно потушаемые в течение стольких лет. Адашев и Сильвестр были удалены, и только. Но потом, когда бывшие наставники были означены изменниками, когда следовательно всякое воздержание, всякое слово совета и укоризны было слито с изменой в глазах Иоанна, он уже более не находил преграды своему дикому нраву. Ему захотелось полного произвола, не сдержанного ничем, никакими, следовательно, и нравственными узами. А человек, лишенный нравственного сдерживания, именно тогда наслаждается своим произволом, когда он делает вещи непозволенные, беззаконные, неслыханные, невероятные. Нарушение всех законов Божеских и человеческих составляет потребность и наслаждение необузданного произвола. Таким стал Иоанн. Если вторая половина его царствования с 1560 года уступает первой половине в славе и достоинстве, то это не оттого, чтобы в первой половине царствования действовал не Иоанн, а советники, но оттого, что Иоанн был уже не тот. Страсти разгорелись в Иоанне страшным пожаром, потрясли его нравственную природу, опустошили его душу; над мрачной бездной еще светился луч природного ума, нужный Иоанну для своего оправдания. Но понятия нравственные не пропали из сознания Иоанна, и это составляло его страшную муку, ибо при этом чувствовал он нравственное бессилие. Зверь, растерзавший многих в своей свирепости, не чувствует угрызения совести; но Иоанн был человек, – человек, дошедший до зверства, но помнящий, и помнящий бессильно, что он человек. Он вдруг кидался за помощью к обрядам Церкви, жил как игумен, молился, изнурял себя, клал поклоны, но сила молитвы была потеряна. О, если бы можно было так же легко умилиться душою, как легко изнурять себя и класть земные поклоны! Иоанн испытал это. Иоанн был не такой тиран, который равнодушно лил человеческую кровь и мучил людей; он знал, он чувствовал всю свою внутреннюю мерзость, всю низость нравственного падения, и не имел сил или лучше не имел воли подняться! «Угрызение совести без раскаяния» – так определяет прекрасно Карамзин состояние души Иоанна. Страшной казнью Провидение потрясло все существо Иоанна. Иоанн убил сына. Казалось, это такого рода потрясение, которое должно было сокрушить его: и точно, его отчаянию не было меры. Но однако после этого странно видеть Иоанна, сватающегося за родственницу английской Елизаветы и готового прогнать свою седьмую жену. Верить ли другим, гораздо худшим известиям? Страшно сказать, но, кажется, он до конца дней остался тем же.
Что касается до бояр, действовавших в царствование Иоанна, то нельзя отказать многим в доблести. Конечно, взятые как целое сословие они не приносили пользы России. Напротив, русский народ боярством не был доволен. Стоит прочесть отзыв псковского летописца о боярах; рассказывая, что бояре мимо всей земли хотели выбрать шведского королевича, но что был выбран царь Михаил Федорович, он прибавляет: «и не сбысться их злый боярской совет» [25]. Потом, описывая вредные действия бояр в первое время царствования Михаила Федоровича, он восклицает: «…сицево бе попечение боярско о земле русской!» [26]. Но тем не менее потомки воинственной дружины, потомки Рюрика имели в себе много доблестей. Имена Воротынского, Шуйского, Курбского (пока он не запятнал себя изменою) и других невольно соединяются в представлении со славными и высокими качествами.
Верно объяснено значение Казани, оплота магометанского мира, и отсюда сочувствие магометанства к Казани.
Странно, что г. Соловьев не упоминает об одном обстоятельстве, о котором говорит Карамзин. От внимания Карамзина не ускользало ни одно явление, могущее быть ему известным, хотя бы он и неверно объяснял самое явление. – Обстоятельство, о котором теперь идет речь, имеет, по нашему мнению, весьма важное значение. Когда Баторий взял Полоцк и Сокол, тогда Иоанн, находившийся во Пскове, послал к государственному дьяку Андрею Щелкалову в Москву, чтобы он собрал в Москве народ и сообщил ему о неудачах нашего оружия, чтобы постарался при этом успокоить народ и утвердить его дух. Щелкалов исполнил волю Иоанна, созвал народ и сообщил ему положение наших дел, не скрывая ничего, но ободряя в то же время. Народ выслушал речь его, и хотя глубоко огорчился неблагоприятными известиями, однако же не потерял твердости, но еще более укрепился духом на перенесение всенародных бедствий. Одерборн (на котором основывается Карамзин), сообщая об этом народном собрании в Москве, созванном по повелению царя, прибавляет, что женщины пришли в отчаяние, что дьяк снова вышел к народу с жалобой на женщин и, чтобы унять их, прибегнул к угрозам. Одерборн приводит речь Щелкалова {1} 1 Вот эта речь: «Вы не знаете, о граждане (cives), ради какой причины назначил я это собрание (сходку, conventum). Знайте же, что Полоцк наш взят и Сокол истреблен огнем и мечом, и прочие соседние крепости подпали под власть нашего врага. Эта весть могла бы внушать вам ужас и отчаяние, если вы не захотите поразмыслить своим разумом: какова переменчивость вещей, и что нет на земле ни одного государя, с которым бы не случалось что-нибудь сопротивное. Впрочем, если поляки взяли обратно Полоцк, мы зато, напротив, владеем всей Ливонией; они разорили немногие крепости, мы имеем под властью большие их города. Их войско заняло малое пространство Белоруссии, наше – Смоленск, Стародуб и Ливония. Но, быть может, погибель людей терзает ваши души; я со своей стороны признаюсь: мы потеряли в Полоцке столько знатных военачальников, столько богатств наших! В Соколе погиб цвет боярства (знати: nobilitatis) и крепких мужей, храмы, алтари, города и поля выжжены. Нам должно переносить это, когда неприятели испытали бедствия, гораздо более тяжкие, ибо как они наших, так наши выгнали их некогда из Полоцка, Смоленска и Ливонии, как их меч проливал кровь братьев наших, так мы их кровью очень часто были обрызганы». Карамзин, ссылаясь на Одерборна, указывает на страницу 299. Мы пользовались изданием Одерборна чрезвычайно редким, находящимся в университетской библиотеке. В этом издании нет счета страниц, и место, оттуда заимствованное, мы должна означить: Ч. III, лист Q. 3. Это издание напечатано в 1585 году через год по смерти Иоанна IV. На последнем листе стоит: Wittebergae. Excudebant haeredes Joannis Cratonis. M. D. LXXXV.
. В какой степени верно передана эта речь Одерборном – это вопрос другой, но само происшествие, как быль, не может подлежать сомнению. Царь велит созвать торжественно народ, чтобы сообщить ему о неудачном ходе военных дел в России и утвердить дух народный к перенесению всеобщих невзгод. Из этого видно, что правительство древней России было в тесном союзе с народом и уважало народ; из этого видно, что дело России было, по общему убеждению, делом, касающимся до всех русских людей. Вспомним, что велся государственный «Летописец дел России» [27]; вспомним, что Гермоген, дабы остановить народ в действиях его против Василия Шуйского, грозит записать эти дела в «Летописец». Как видно, высоко стоит в нравственно-общественном и гражданском образовании тот народ, с которым возможно употреблять такую чисто нравственную угрозу. Подобные обстоятельства красноречиво говорят за древнюю допетровскую Россию и возносят ее высоко. Как странны, как жалки усилия затемнить ее величавый образ, все бывшее до Петра находить недостойным и ничтожным и только с Петра и через Петра видеть в России все хорошее. Как странно, как непонятно (для нас, по крайней мере) все величие многовековых подвигов и трудов народных приписать одному человеку, хотя бы и гениальному [28].
Интервал:
Закладка: