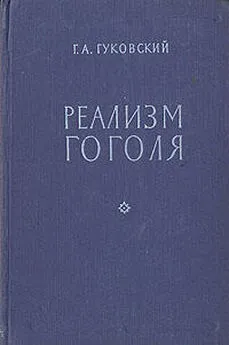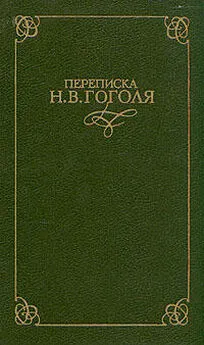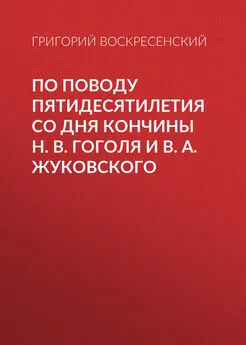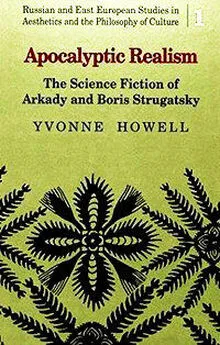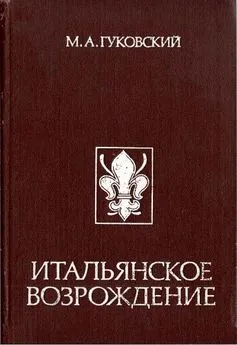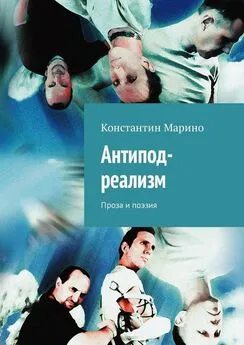Григорий Гуковский - Реализм Гоголя
- Название:Реализм Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гослитиздат
- Год:1959
- Город:Москва-Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Гуковский - Реализм Гоголя краткое содержание
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://ruslit.traumlibrary.net
Реализм Гоголя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Последние слова удивительно глубоки и печальны. Это – как бы тема «Шинели» в зерне в применении к народу. Видно, мало имеет этот крестьянский ребенок радости в жизни, если даже столь жалкое развлечение, после которого надо еще брести домой бог знает сколько верст, уже радует его. Вовсе не имея в виду никаких прямых литературных связей или даже аналогий, как здесь не вспомнить, однако, концовки первой части радищевского «Отрывка путешествия в *** И. Т.», где крестьянские дети, получив от проезжего барина скудные подарки, скачут и кричат: «У меня пряник! у меня пирог!»
Только такое душевное восприятие человека из народа могло обосновать патетику прославления талантливого русского народа в таких местах «Мертвых душ», как, например, в концовке пятой главы, в авторском монологе о русской народной речи: «Выражается сильно русский народ…» и до «но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».
Было бы более чем наивно думать, что Гоголь, говоря о русском народе, хоть на минуту забывал о его доле. Он и Чичикову поручил подумать, что дворянские бальные причуды – «ведь на счет же крестьянских оброков». Но есть в «Мертвых душах» развернутое место, как бы целый лирико-публицистический эпизод, в котором дума о доле народа и дума о его характере слиты и образуют важнейшее идейное целое. Это место – размышление Чичикова о купленных им мертвых душах – является едва ли не центром, идейной осью всей поэмы. Само собой разумеется, мысли Чичикова здесь – это мысли Гоголя (не единственный раз в книге).
Заметим и то, что это размышление о русском народе следует сразу за знаменитым вступлением к седьмой главе, в котором Гоголь говорит о своем призвании быть поэтом суровой правды, то есть излагает центральную, основную идею своей творческой программы.
В воображении Чичикова, Гоголя и читателя, пробегающих глазами список купленных «душ», встает целая галерея образов крестьянской Руси. Они разительно противостоят всей совокупности персонажей дворянской России, населяющих поэму. В противоположность тупым, ничтожным, пошлым и подлым людишкам «мертвого» мира господ перед нами живые, простые люди, забубенные русские головушки, хотя и загубленные своей лихой долей.
Тут и Степан Пробка, «богатырь»-трудолюбец, и лихой Григорий Доезжай-не-доедешь, ямщик, и беглые, ищущие воли от помещика в разбое, и грамотей Попов, легко меняющий воровскую волю на тюрьму, и Абакум Фыров, который «взлюбил вольную жизнь, приставши к бурлакам», и вся бурлацкая ватага, весело гуляющая на реке перед тем, как дружно приняться за труд под «бесконечную, как Русь, песню».
Все это раздумье о лихой судьбе русского человека из народа окрашено в тона эпические, фольклорные и заканчиваются картиной могучего веселья труда, «разгула широкой жизни», о которой, по словам Гоголя, не может не задуматься всякий русский человек.
Таким образом, в этом месте Гоголь вставляет в повествование о пошлой действительности пошлых людишек как бы конспект, очерк ненаписанной поэмы о могучем народе, окованном цепями, поэмы стиля «Тараса Бульбы» и довольно очевидно предсказывающей «Кому на Руси жить хорошо» и строем образов, и темой, и отчасти даже самой идеей. Так в «Мертвых душах» подводится итог тому, что составляло идейную основу еще в в «Миргороде», – противоречию между идеалом и возможностями народа, с одной стороны, и подлостью современного Гоголю общества – с другой.
Но есть здесь и отличие от «Миргорода», притом весьма существенное. Хотя идеал образа Бульбы – идеал народный, Бульба все же – не крестьянин, не простой мужик. В «Мертвых душах» – иначе. Здесь пошлости и подлости господ, помещиков и чиновников, благоденствующих в николаевской России, противопоставлены мужики, люди из народа , наделенные и талантом к труду и жаждой вольной жизни, но лишенные счастья и прав.
Следовательно, «Мертвые души», книга великого отрицания, тем не менее вовсе не заключает в себе только лишь отрицательные образы. Наряду с коллективным единым образом общественного зла, воплощенного во множестве действующих лиц из господствующего класса, Гоголь создал тоже коллективный единый образ русского народа. И народ является в прямом смысле положительным героем его поэмы. Это не обычный положительный герой обычных сюжетных произведений, романов и повестей; да он и не может быть таким, потому что «Мертвые души» – не обычный роман, и обычного сюжета в этой поэме нет. Но если в «Мертвых душах» показана в едином охвате вся современная Гоголю Русь, то показана она в борении двух сил, обнаруженных в ней Гоголем: силы отрицательной, силы зла, воплощенной помещиками и чиновниками, да и денежной спекуляцией грядущего дельца в придачу, – и силы положительной, силы народа.
Однако, если бы эта положительная сила нашла бы в поэме свое образное выражение лишь в эпизодических, правда проходящих через всю поэму, но все же проходящих вторым планом, фигурах крестьян, крепостных, мы могли бы считать, что ее место и значение в «Мертвых душах» куда менее велики, чем место и значение отрицаемого мира господ, занявшего весь передний план картины. На самом деле идейная композиция гоголевской поэмы не такова. Это становится вполне ясным, если мы проясним, осознаем то огромное эмоциональное и идейное воздействие, которое оказывает на читателя образ автора, рассказчика, повествователя и поэта, от которого и в освещении которого мы и узнаем все, что рассказано в «Мертвых душах».
Коротко говоря, если почти все главные персонажи поэмы враждебны народу и вредны родине, то один, и, пожалуй, самый главный персонаж ее, поэт-автор, – друг народа и верный сын родины. Образ того, кто поведал нам о мире Плюшкиных и кувшинных рыл, вступает в борьбу с этим миром, отрицает этот мир и побеждает его. Это и есть образ русского поэта.
В создании этого образа сказался весь предшествующий опыт исканий и творческих завоеваний Гоголя. И в данном отношении «Мертвые души» есть также итог и высшее достижение гоголевского гения. Решение проблемы носителя речи, рассказчика в «Мертвых душах» было одним из великих прозрений классической русской литературы XIX столетия. В отличие от образа рассказчика у других писателей XIX века, являющегося образом индивидуальной личности, рассказчик в «Мертвых душах» – это и конкретный индивидуальный человек-личность, интеллигент-писатель, и в то же время это воплощение «духа народа», обобщение народного сознания, это его поэтическое и вещее слово.
Именно это диалектическое единство личного и народного, коллективного было одним из важнейших и глубочайших пунктов творческого завещания Гоголя русской литературе, вовсе не сразу и не в полной мере усвоенного его учениками, то вдававшимися в одну односторонность, обращаясь только к общему, роевому в человеке и теряя человека как личность (собственно натуральная школа 40-х годов), то впадавшими в другую односторонность, ограничивая свой кругозор по преимуществу индивидуальной ценностью человека, хотя бы и типического для своей эпохи, но оцениваемого именно как личность (например, Тургенев).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: