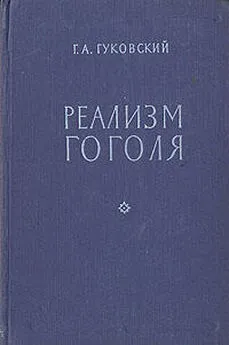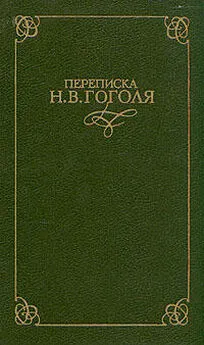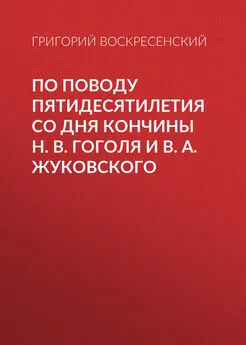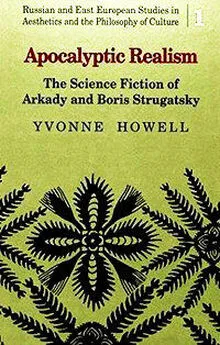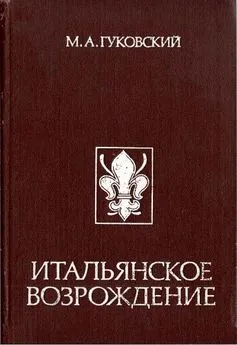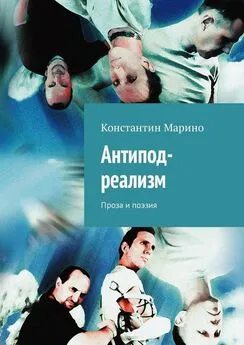Григорий Гуковский - Реализм Гоголя
- Название:Реализм Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гослитиздат
- Год:1959
- Город:Москва-Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Гуковский - Реализм Гоголя краткое содержание
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://ruslit.traumlibrary.net
Реализм Гоголя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
22
Впрочем, следует оговорить, что у Станкевича есть одно-два стихотворения, близкие Тютчеву и значительные в этом смысле. См. «Мгновение» («Есть для души священные мгновенья…») и «Подвиг жизни» («Когда любовь и жажда знаний…»); в последнем тема слияния с жизнью божески-всемирной – как бы тютчевская. Но поэзия Тютчева – это нечто гораздо большее, чем шеллингизм, и в этом-то огромная разница между Тютчевым и Станкевичем.
23
«Переписка Н. В. Станкевича». М., 1914, стр. 335.
24
Нужно ли напоминать о сопоставлении «Тараса Бульбы» (трагедии) и повести о двух Иванах (комедии), великолепно развернутом в статье Белинского о «Горе от ума»?
25
С. А. Венгеров . Очерки по истории русской литературы. СПб., 1907, стр. 177. (Раньше – в «Русском богатстве», 1902.) Ср. с этим – в речи С. А. Муромцева на гоголевском торжестве в Москве в 1909 году: «Его талант с особенным вниманием сосредоточивается на групповом, на массовом, на стихийном», или: «Не человек сам по себе в полноте его индивидуальных качеств, но человек как носитель данного уклада, как участник данного события, как выразитель общественного настроения – таков преимущественный предмет художественной переработки Гоголя» («Гоголевские дни в Москве». Общество любителей российской словесности», М., 1909, стр. 112).
26
Отсюда ведь и возможность для критиков, чуждых самому существу метода Гоголя, мысливших индивидуалистически и не способных подняться до общего, массово-коллективного восприятия мира, объявлять Тараса Бульбу образом чуть ли не отталкивающим и, во всяком случае, им, критикам, неприятным. Отсюда странное на первый взгляд понимание Тараса как бандита в статьях Мериме, который, видимо, воспринял повесть Гоголя в ряду драм, поэм и повестей о романтических разбойниках и сокрушался по поводу антигосударственного, дикого и безобразного, по его мнению, поведения бандита Бульбы. Отсюда же и не менее дикое восприятие Тараса Бульбы как помещика-феодала, угнетателя, высказанное Н. И. Коробкой, прародителем вульгарно-социологических кривотолкователей Гоголя (Н. И. Коробка . Гоголь. – «История русской литературы XIX века», под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. II, М., 1915). Такого рода взгляды доказывают только, что, истолковывая образ Тараса как привычный для сознания читателя-индивидуалиста образ личного характера, нельзя не впасть в нелепейшие ошибки. Самая крайность разногласий подобных толкований, – от бандита до крупного помещика, – обнаруживает, что они построены на песке.
27
А. Белый . Мастерство Гоголя, 1934, стр. 17–18.
28
Эту цитату из рассказа Кукольника привел И. Каманин в статье «Научные и литературные произведения Н. В. Гоголя по истории Малороссии». – «Памяти Гоголя». Сборник под ред. Н. П. Дашкевича, Киев, 1902, стр. 124. И. Каманин при этом ошибочно привел название рассказа Кукольника.
29
Даже Нестор Котляревский (в книге «Гоголь», 1915) говорил о том, что «Тарас Бульба» «остается романтической грезой, а не живой повестью о былом».
30
«Эта книга не имеет никаких претензий на историчность – разве только в том отношении, чтобы нарисовать, с известной осведомленностью и добросовестностью, но только исключительно попутно, беглыми очерками, состояние нравов, верований, законов, искусств, в общем – цивилизации XV века. В конце концов, главное в книге не в этом. Если у нее и есть какое-то достоинство, оно в том, что это – создание воображения, причуды, фантазии» (франц.) .
31
Ср. у Сумарокова о «складе» травестийных поэм: «Или нам бурлака Енеем представляет, Являя рыцарьми буянов, забияк… Робенка баба бьет – то гневная Юнона. Плетень вокруг гумна – то стены Илиона…» («Епистола о стихотворстве»).
32
Об этом писал уже Н. С. Тихонравов, комментируя текст повести.
33
Следует оговорить, что этих романтически-«ужасных» мотивов и в первой редакции мало, и они не определяют окраски повести.
34
Этот же смысл имеет сценка в первой редакции повести; во время рады кошевой зовет обратно на Сечь. Запорожцы хотят остаться:
«Мы не хотим идти на Сечу! Мы остаемся здесь!» – кричала толпа.
«Что вы? сдурели? Я вас, чертовы дети, перевяжу всех».
«Какую он может иметь власть? – сказал Тарас, обращаясь к запорожцам. – Мы – вольные козаки!»
«А что ж? Мы вольные козаки!» – говорили запорожцы.
«Дам я вам вольных! Вы где вольные? На Сече. Вот там вы вольные! Там вы можете снять с меня достоинство, связать меня и убить, и все, что хотите; а тут вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное право? А ты что тут заводишь бунт?» – сказал он, обращаясь к Бульбе».
Гоголь снял этот эпизод, может быть, потому, что во время рады кошевой у него и не должен вовсе покрикивать на казаков и не может говорить о бунте. В первой редакции – мысль о том, что казаки в Сечи – народ-господин, а под Дубном – войско, подчиненное военачальнику. Во второй редакции – мысль о том, что казаки на раде – народ-господин, а в бою войско, подчиненное военачальнику. В принципе, конечно, разницы нет.
35
Не лишено интереса, что в предшествующей редакции, в рукописи, у Гоголя в этом пассаже звучали националистические нотки, которые он вытравил в окончательном тексте; там говорилось: «Но у последнего подлюки, каков ни есть, потерявшего имя человека в низкопоклонничестве, есть и у него – будь только он русского рода, а не какая чуждая примесь, – есть чувство в душе…» Может быть, Гоголь вспомнил Фонвизина, Кюхельбекера, Пестеля и многих других – и устыдился.
36
Курсив Гоголя. – Ред.
37
М. Цявловский . Новое о Пушкине в Кишиневе. – «Новый мир», 1937, январь, стр. 288.
38
Заметим это «ветхими», стилистически поднимающее даже лоскутья.
39
«Литературный музеум. Цензурные материалы», I (1921), под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана, стр. 95–96 (мнение цензора Ржевского).
40
Курсив Герцена. – Г. Г.
41
А. И. Герцен . Полное собрание сочинений и писем, т. VII, 1917, стр. 371–373.
42
М. К. Азадовский . Декабристская фольклористика. – «Вестник Ленинградского университета», 1948, № 1, стр. 81.
43
Славян.
44
Удачно привлекает эту цитату, например, С. Машинский в указанном сочинении, стр. 61.
45
В его диссертации «Арабески» Гоголя», к сожалению, еще не напечатанной.
46
Доклад А. Х. Бенкендорфа Николаю I от 2 февраля 1842 года о Гоголе. – М. Лемке . Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг., стр. 135.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: