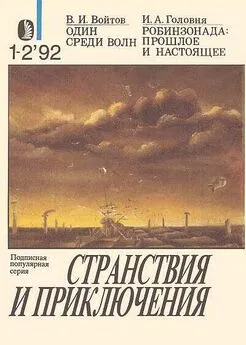Петер Матт - Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее
- Название:Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр книги Рудомино
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00087-011-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петер Матт - Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее краткое содержание
В книге собраны эссе швейцарского литературоведа Петера фон Матта, представляющие путь, в первую очередь, немецкоязычной литературы альпийской страны в контексте истории. Отдельные статьи посвящены писателям Швейцарии — от Иеремии Готхельфа и Готфрида Келлера, Иоганна Каспара Лафатера и Роберта Вальзера до Фридриха Дюрренматта и Макса Фриша, Адельхайд Дюванель и Отто Ф. Вальтера.
Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Беат Штерхи, следовательно, перечеркивает первое предположение читателя, что истоки и прогресс противостоят друг другу как добро и зло, воплощенные в образах крестьянского двора и скотобойни. Он показывает, что и тут и там «правильная старина» присутствует лишь как воспоминание, в действительности же она давно утрачена. Поэтому произведение Штерхи очень далеко от классической схемы деревенского романа. Уничтожение Блёш начинается еще в хлеву крестьянина, где поначалу она выступает в роли предводительницы стада и (в мастерски написанной сцене) производит на свет теленка, бычка. Именно за это крестьянин осыпает ее бранью: ведь он ждет от нее телят-самок, будущих молочных коров. С другой стороны, поистине адские сцены на скотобойне [70] Удивительную параллель к сценам забоя коров в романе «Блёш» мы находим у тессинского автора Джованни Орелли. В его романе «Праздник благодарения» (Милан, 1972; в немецком переводе «Деревенский праздник») все вертится вокруг уничтожения целого коровьего стада швейцарскими военнослужащими — в день, отмечаемый всеми швейцарцами как день благодарения, покаяния и молитвы. — Примеч. П. фон Mamma.
тоже не однозначны, поскольку группа рабочих отваживается на бунт из-за одной черной коровы породы эрингер, животного, принадлежащего к древней валлийской расе: они не хотят забивать эту корову индустриальным, механическим способом, под неумолимо фиксирующими время часами, но, почистив ее скребницей и украсив цветами, убивают медленно и достойным образом, будто совершают древний жертвенный ритуал.
И посреди описания этой церемонии, за три страницы до окончания романа, рассказчик вдруг произносит настоящий гимн первобытному происхождению коров, облекая в слова виде́ние об их предках, существовавших задолго до начала человеческой цивилизации. Полностью понять эту возвышенную песнь можно лишь в том случае, если у тебя перед глазами еще стоят жуткие сцены (описанные во многих главах) повседневной резни на скотобойне, сцены, по ходу которых люди не только мучают и убивают животных, но и сами вынуждены заниматься механизированной, жестоко ускоренной работой.
Казалось, будто эта корова знает о своих предках, знает, что сама она может быть только неуклюжим напоминанием о том туре с изогнутыми рогами длиной в руку, который когда-то осуществлял мировое господство над светлыми лесами и насыщенно-яркими парковыми ландшафтами Средней Европы, вплоть до самого сердца далекого Китая: над империей, в которой редко заходило солнце и где его власть не могли оспорить ни коварные лобастые быки Азии, ни склонный к недовольству хрюкающий бык [71] Лобастые быки (Bibos) включают три вида диких быков из Южной Азии: гаур, бантенг и серый бык, или купрей. Хрюкающий бык — одно из названий яка (Poephagus), ныне распространенного на Тибете и в смежных с ним областях.
. Казалось, будто эта маленькая корова знает о насмешках и издевательствах, которыми люди издавна осыпали представителей ее подъяремной расы, но в то же время слышит, прямо сейчас — где-то в задней части черепа, где у нее начинается удлиненный спиной мозг, и внутри своего маленького головного мозга, — приглушенный гул, который целиком заполняет ее голову, как шум моря заполняет сухую раковину, и который не может быть ничем иным, кроме как отголоском стука копыт ее предков, некогда сбивавшихся в могучие стаи и с грохотом мчавшихся по-над степью, словно грозовые тучи [72] Sterchi В. Blösch. А. а. О. S. 429. — Примеч. П. фон Mamma.
.
Именно из-за легкого налета наивности, свойственного этому тексту, нас так больно задевает отраженный в нем диссонанс между истоками и прогрессом, природой и технической цивилизацией. Ведь какую бы научную выучку мы ни получили, каким бы трезвым и лишенным иллюзий ни было наше мышление, наблюдая наш мир и наше настоящее, мы не можем полностью отказаться от попыток актуализировать, вызвать колдовским заклятьем истоки нашего прошлого или грядущую утопию. Только благодаря этим истокам или этой утопии мы знаем, что следует считать правильным. Сколь бы очевиден ни был для нас иллюзорный характер подобных видений, обойтись без них мы не можем. Или, если выразиться точнее: мы не можем обойтись без тех крошечных элементов и частиц, которые отсылают к ним и таким образом воздействуют на наши души. Древнее истинное и обещанное грядущее в этом смысле взаимозаменяемы. «В моем начале мой конец», говорят мудрые люди; и еще: «Исток это и есть цель». Так они определяют не столько устройство мира, сколько предвосхищенные еще много столетий назад пути человеческого мышления, законы самоутверждения, характерные для homo sapiens. Между истоком и концом помещаются «процессы»: история, прогресс, динамика технической цивилизации. Человек, захваченный ими, вовлеченный в головокружительный круговорот ускорившегося мира, хочет найти знаки, отсылающие к истокам. Такие знаки способны высвобождать присущую им энергию и теперь — даже после того, как превратились в китч, потому что тысячекратно становились инструментом рекламных компаний или предметом политических спекуляций.
ЧТО ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ МИФОВ? Новое литературное думание о Швейцарии
Миф это донаучная форма объяснения мира. Его средства — повествования, образы, знаки. Все они заключают доказательную силу в себе самих. Я могу вновь и вновь пересказывать повествования, рисовать на стенах образы, распространять посредством печати знаки, и всякий раз при встрече с ними во мне будет возникать то, что является их смыслом и целью: уверенность. Миф продуцирует правду как явленную в переживании уверенность. То же делает и наука. В науке уверенность проистекает из длинного ряда доказательств. В мифе она возникает из внезапного переживания при восприятии повествований, образов или знаков. Доказательства науки, если они были проведены lege artis [73] Здесь: в соответствии с правилами данной дисциплины (лат).
, не нуждаются в повторном воспроизведении. Доказательная сила мифов, наоборот, нуждается во все новых актуализациях. Каменные памятники представляют собой попытку обеспечить постоянное воспроизведение мифического переживания. Однако своим неизменным присутствием они упраздняют живую непосредственность восприятия. Правду повествований, образов и знаков нельзя опровергнуть, она может только отмереть; правда же науки сама по себе не отомрет, она может быть только опровергнута.
Мы — и как отдельные индивиды, и как социальное или политическое сообщество — живем сразу с обеими правдами: правдой науки и правдой мифа. Поэтому неверно отождествлять науку с правдой, а миф — с ложью. Хотя сегодня мы сталкиваемся с таким отождествлением постоянно, в языке СМИ: «Правда или миф?» (читаем мы в каком-нибудь заголовке), или: «Разоблачен как миф!», или: «Это всего лишь миф».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
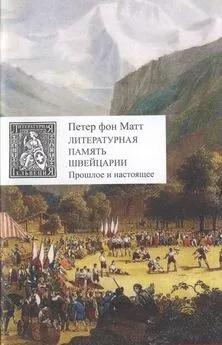






![Ник Пайенсон - Наблюдая за китами [Прошлое, настоящее и будущее загадочных гигантов]](/books/1067499/nik-pajenson-nablyudaya-za-kitami-proshloe-nastoyache.webp)