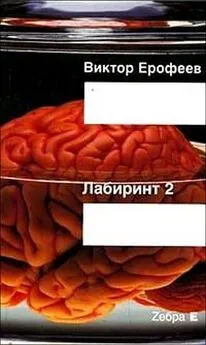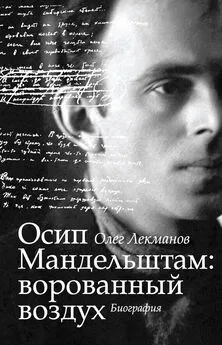Виктор Ерофеев - Лабиринт Один: Ворованный воздух
- Название:Лабиринт Один: Ворованный воздух
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо-Пресс, Зебра Е
- Год:2002
- ISBN:5-94663-016-4, 5-94663-285-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Ерофеев - Лабиринт Один: Ворованный воздух краткое содержание
Жизнь — лабиринт, и. чтобы не жить и сумерках сознания, надо понять основополагающие вещи: смысл любви, тайну смерти, путь норы, отчаяния, знания. Это книга «проклятых вопросов», отпеты на которые автор ищет имеете с читателями. Для всех, кто хочет жать и думать.
Лабиринт Один: Ворованный воздух - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
образуя синкретический образ любви к возлюбленной, родине, несовершенному миру, року и т. д. Или же любовь начинает порою смешиваться — здесь включаются абсурд и недостаточность веры в абсолютные ценности — с циническим чувством.
Этот момент объективизируется в эпатаже, «дразнений гусей», свидетельствуя о пустоте пантеона — примете современного мира. В результате любовная трагедия может обернуться фарсом, изложенным бойким пятистопным ямбом:
Петров женат был на ее сестре,
но он любил свояченицу; в этом
сознавшись ей, он позапрошлым летом,
поехав в отпуск, утонул в Днестре.
(«Чаепитие»)
Фарс разлагает любовь — особенно тогда, когда она слаба, — на составные, чреватые игривой метафорой, элементы:
Сдав все свои экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга;
был вечер, и закупорена туго
была бутылка красного вина.
(«Дебют»)
Однако мужской «раздевающий» взгляд редко доминирует, находясь в связанном состоянии, обогащаясь, нейтрализуясь или преображаясь благодаря иронии.
Ирония в поэзии Бродского непосредственным образом сопряжена со здравым смыслом. Я бы даже мог назвать поэзию Бродского поэзией здравого смысла, так велик в ней момент сдержанности, самоотчуждения, «постороннего» взгляда. Такое определение может показаться вялым и малопоэтичным, во всяком случае недемоничным, что в XX веке звучит чуть ли не оскорблением. Но, вспоминая свою первую встречу с Оденом, Бродский приводит такое его суждение о Чехове:
«Лучший русский писатель — Чехов.
— Почему?
— Он — единственный из ваших людей, у кого был здравый смысл».
Слова умирающего Н.Страхова — «Я хотел быть трезвым среди пьяных» — можно применить к поэзии Бродского. Именно трезвость и здравый смысл удержали Бродского от метафизической экзальтации, не допустили мистического запанибратства. Его стихотворение «Разговор с небожителем», в сущности, оказалось «абортированным» откровением, осталось монологом:
Не стану ждать
твоих ответов, Ангел, поелику
столь плохо представляемому лику,
как твой, под стать,
должно быть, лишь
молчанье…
Позиция здравого смысла определяет цикл стихов Бродского на темы Римской империи, созданный прежде всего не для каких-либо аллюзий, но для того, чтобы показать устойчивость и «усталое» постоянство мира, что близко идеям автора «Улисса». В политическом измерении здравый смысл заставляет Бродского занять «постутопическую» позицию, увидеть в катаклизмах века борьбу не добра со злом, а меньшего зла с большим и выразить, в результате, свой скептицизм по отношению к политическим движениям в целом.
«Я не верю в политические движения, — утверждал поэт по приезде в США , — я верю в личные движения, в движения души — когда человек смотрит на самого себя и устыжается так, что производит какое-то изменение — внутри себя, не вовне».
Бродский сочувственно относится к идее непротивленчества, делая акцент на внутреннем самосовершенствовании, отчуждаясь, однако, от максимализма толстовства. Впрочем, последовательного аполитизма не получается, и в Нобелевской речи поэт высказался решительно:
«…По крайней мере, до тех пор, пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства».
Включенный в поэтику, здравый смысл зачастую переплетается с иронией и самоиронией, позволяющей поэту как снимать эмоциональное напряжение, так и вести диалог с культурой на разных содержательных уровнях, с различными целями. Один из наиболее показательных примеров иронического диалога находим в поэме «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (1974), особенно в той ее части, где Бродский предлагает свою версию пушкинской темы и где особенно отчетливо видны все стороны его эмоционального квадрата:
Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее, виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! Все не по-людски!
Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Пармениду — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!
Эмоциональный квадрат Бродского был бы достаточно непрочной, ломкой фигурой, если бы не существовало веры Бродского в слово.
Именно такая вера может рассматриваться как абсолют в поэтическом сознании Бродского.
В 1965 году он сформулировал свое кредо, остающееся в силе по сей день. В стихотворении «Одной поэтессе» он писал:
Я заражен нормальным классицизмом.
А вы, мой друг, заражены сарказмом…
Бродский обнаруживает три вида поэзии:
Один певец подготовляет рапорт.
Другой рождает приглушенный ропот.
А третий знает, что он сам лишь рупор.
И он срывает все цветы родства.
Если «рапорт» относится к псевдопоэзии, то «ропот» — отличительный знак гражданственной лирики, вознесенной в России на пьедестал, однако именно третья, медиумная, позиция близка Бродскому, который, через отрицание сарказма, объясняет ее значимость:
И скажет смерть, что не поспеть сарказму
за силой жизни. Проницая призму,
способен он лишь увеличить плазму.
Ему, увы, не озарить ядра.
В книге «Меньше, чем единица», где по разным эссе рассеяны мысли Бродского о собственной поэтике, дано и другое объяснение «нормальному классицизму»: человек, долго живший в архитектурных ансамблях Петербурга,
«склонен связывать добродетель с пропорциональностью. Это старая греческая мысль, но, будучи перенесена под северные небеса, она обретает несколько воинствующий характер и заставляет художника, мягко говоря, чрезвычайно заботиться о форме. Такое влияние особенно очевидно в отношении русской, или, по месту рождения, петербургской поэзии. Ибо в течение двух с половиной столетий эта школа, от Ломоносова и Державина до Пушкина и его плеяды (Баратынский, Вяземский, Дельвиг), и далее до акмеистов в этом столетии (Ахматова, Мандельштам) существовала под тем же знаком, под которым и была зачата: под знаком классицизма».
Впрочем, с экзистенциальной точки зрения, вера в слово может быть поставлена под сомнение. Будь Бродский верным учеником Киркегора и Шестова, у него было бы два пути. Либо, в конечном счете, замкнуться в молчании, поскольку отчаяние парализует самую возможность коммуникации, попросту делая ее бессмысленной. Либо совершить «скачок» (если пользоваться терминологией Камю, исследовавшего подобный казус именно у Киркегора и Шестова) и в глубине отчаяния найти источник веры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: