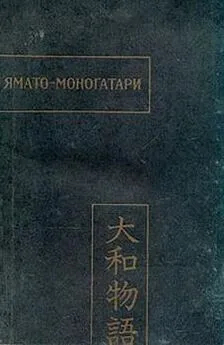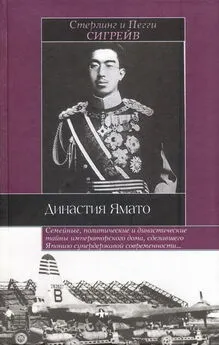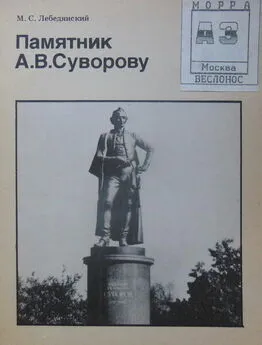Л. Ермакова - Ямато-моногатари как литературный памятник
- Название:Ямато-моногатари как литературный памятник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Л. Ермакова - Ямато-моногатари как литературный памятник краткое содержание
В исследовании, предваряющем перевод Ямато-моногатари, подробно рассматриваются проблемы датировки текста, ряд текстологических вопросов, а также ключевое для данного памятника соотношение стихов и прозы.
Ямато-моногатари как литературный памятник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эта предпосылка возникновения и развития какэкотоба вполне естественна, если рассматривать ее в системе хэйанской поэтики танка, характеризующейся емкостью поэтического текста, а также приписыванием различным элементам текста роли носителя определенных семантических полей. Необходимо оговориться, что понятие ограниченности стихового пространства не означает его узости, а предполагает наличие строгих ограничений.
Обратимся теперь к иным ранним разновидностям японской словесности, использовавшим омонимию, а именно к фольклору, и в частности к самой метафорической его части – народным загадкам. Здесь мы встречаемся с явлениями, в основе весьма сходными с какэкотоба в танка.
Загадка как жанр в данном случае интересна для нас тем, что она, по определению В. В. Иванова и В. Н. Топорова, – «одно из самых крайних проявлений гибкости языка, разрешающей в художественной речи сколь угодно широкое понимание переносных значений слов и словосочетаний» [34].
Е. Д. Поливанов, изучавший японские народные загадки, описывает один из наиболее распространенных в Японии типов загадок, надзо, следующим образом:
1) С чем можно сравнить то-то?
2) Ответ: сравнить можно с тем-то.
3) Объяснение сравнения, начинающееся словами: «Смысл этого в том, что..»
Приводим примеры в записи Е. Д. Поливанова, в которых четко виден механизм построения системы с омонимами:
1) jabure-so:zi-to kakete nan to toku? uguisu-to toku (sono) kokoro wa haru-wo macu.
«С чем можно сравнить порванные сёдзи (ширмы)? – С соловьем. Потому что соловей ждет весны» ( хару – «весна» и «натягивать», например бумагу на сёдзи).
2) mekura-no sibai mi-to kakete nan-to toku? Kusunoki Masasige-no mondokoro-to toku (sono) kokoro wa mizu-ni kiku.
«С чем можно сравнить слепого в театре? – С гербом Кусуноки Масасигэ. Потому что слепой слушает не видя», ( мидзу-ни кику – «слушать не видя» и «хризантема в воде» – герб Кусуноки Масасигэ).
Загадки эти сравнительно поздние, но механизм загадки представляет собой явление довольно устойчивое и консервативное. Особенно интересно, что в первом случае встречается типичная для хэйанской поэзии игра омонимии: хару – «весна» и хару – «натягивать» и «склеивать».
Как мы видим, объяснение сравнения содержит «поворотное» слово или словосочетание. Использование каламбура и в загадке может свидетельствовать об органичности использования омонимии в поэзии, ибо этому способствует сама стихия японской словесности, которой, видимо, искони свойственно использование омонимии либо многозначности слова.
Если и не вполне правомерно выводить какэкотоба из народной загадки типа надзо, то, во всяком случае, их генетическая близость кажется вполне вероятной. Подтверждением родства какэкотоба и загадок надзо может, видимо, послужить эпизод наподобие 132-го дана из Ямато-моногатари :
«Во времена того же императора (Дайго) это было. Призвал он как-то к себе Мицунэ, и вечером, когда месяц был особенно красив, предавались они всяческим развлечениям. Император соизволил сказать: „Если месяц назвать натянутым луком, что это может значить? (Цуки-во юмихари то ифу ва нани-но кокоро дзо). Объясни суть этого в стихах“. И Мицунэ, стоя внизу лестницы, сложил:
Тэру цуки-во
Юмихари то си мо
Ифу кото ва
Ямабэ-во саситэ
Ирэба нарикэри
Когда светящий месяц
„Натянутым луком“
Называют – значит это,
Что в горные гряды
Он стреляет».
Юмихарицуки – «молодой месяц», юмихари – «натянутый лук». Знаменательно, что здесь форма предложения темы для танка совпадает с формулой загадки – нани-но кокоро дзо и соно кокоро ва. «Стрелять» и «заходить» (о месяце) – омонимы.
Таким образом, возможно предположить, что китайский поэтический прием, основанный на игре омонимии и насчитывавший долгую историю существования, не был новацией для японской литературы, уже имевшей собственный вариант омонимического тропа, согласующегося с системой японской поэзии. В то же время не исключено, что именно авторитет китайских поэтов, знаменитых и безымянных, способствовал закреплению этого приема на поэтическом материале танка.
Если обратиться к конкретным литературным явлениям [35], то в китайской литературе типологическое сходство с приемом какэкотоба обнаруживает прием шуангуанцзы, прием «двойного закрепления», суть которого заключалась в том, что «омонимическая метафора строилась на созвучии слов, имевших различное значение; специально подбирались такие сочетания, которые являлись омонимами других, и, таким образом, создавался своеобразный второй план произведения. Эти метафоры становились привычными, порождали стойкие ассоциации» [36].
Однако в Китае омонимия не прививается в авторской поэзии как особый прием, оставаясь в основном принадлежностью народной песни, в Японии же она начинает играть важную роль, закрепляется в авторской поэзии средневековья и развивается далее, переходя в иные жанры, в том числе прозаические.
Кроме того, довольно редки случаи, когда в танка мерцание двух смыслов слова составляет особенность какого-либо одного отрезка стиха, какэкотоба часто управляет всем текстом либо потому, что стихотворение содержит несколько взаимосвязанных какэкотоба, либо потому, что это слово входит в отношения с другими элементами текста и эти отношения определяются иным типом связи, например энго.
«В стихах слова подбираются так: омоним заменяется омонимом для выражения внутренней, до этого данной звукоречи, а не синоним синонимом для выражения оттенков понятия», – писал об омонимии в танка В. Шкловский [37].
Рассмотрим такую танка:
Нагаки ё-во
Акаси-но ура-ни
Яку сихо-но
Кэбури ва сора-ни
Тати я ноборану
В долгие ночи
От соли, что жгут
В бухте Акаси,
Дым в небе
Стоит, не, поднимаясь.
(77-й дан)
Омонимы, содержащиеся в этом стихотворении, придают ему еще один смысл: «Долгие ночи провожу я, встречая рассвет, сгорая от любви к тебе, и, превратившись в дым, неужто я застыну в небе? Конечно, я улечу ввысь». Эти омонимы: акаси – «встречать рассвет» и топоним Акаси, яку – «жечь» (о соли) и «сгорать от любви».
Приведенный пример свидетельствует о том, что разные значения какэкотоба могут пронизывать почти весь текст танка, изменяя и перестраивая связи между словами. Стихотворение, будучи воспринятым целостно и единовременно, тем не менее предстает как бы в двух ипостасях с точки зрения его семантики, логики развертывания поэтической мысли, тропов и образов.
Достойно упоминания также, что в китайской поэзии омонимический прием использует именно омонимы, совпадающие и фонетически и по тону, например: лянь – «лотос» и лянь – «любовь», ци – «срок» и ци – «шахматы» и т. д. В Японии какэкотоба зачастую образуется омофонами с разными тоновыми характеристиками и даже фонетическими различиями, примеры чему приводились выше. Иногда в какэкотоба использовались даже не омонимы, а лишь близкие по звучанию слова (но все же такие, чтобы слушающий или читающий танка был в состоянии мысленно реконструировать подразумеваемое слово). Китайской поэзии столь значительные фонетические различия слов, составляющих омонимический прием, были, видимо, несвойственны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: