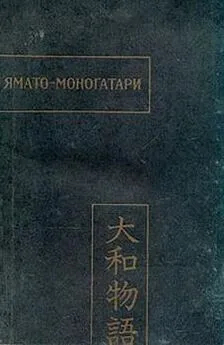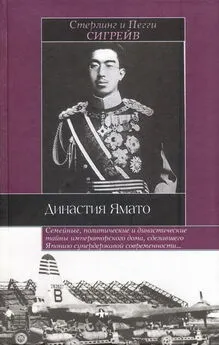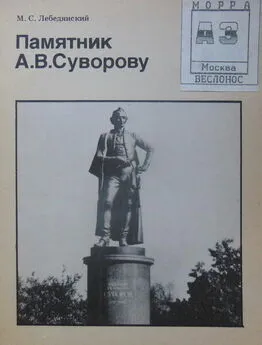Л. Ермакова - Ямато-моногатари как литературный памятник
- Название:Ямато-моногатари как литературный памятник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Л. Ермакова - Ямато-моногатари как литературный памятник краткое содержание
В исследовании, предваряющем перевод Ямато-моногатари, подробно рассматриваются проблемы датировки текста, ряд текстологических вопросов, а также ключевое для данного памятника соотношение стихов и прозы.
Ямато-моногатари как литературный памятник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как уже говорилось, все эпизоды Ямато-моногатари принято считать построенными сходным образом и излагающими, кто, когда, где, при каких обстоятельствах, кому адресуясь, какую танка сложил. Надо сказать, что эта схема, похожая на структуру простого, не очень распространенного предложения, кажется более соответствующей тем предисловиям, которые предпосланы танка в домашних поэтических сборниках и антологиях, или комментариям, следующим за стихом. Ряд данов Ямато-моногатари развертываются точно по этой схеме, напоминая распространенное заглавие к стихам, а вовсе не новеллу со вставными стихами. Иногда эта шестичленная схема сокращается вдвое и втрое, например:
«Тот же Укё-но ками – Гэму-но мёбу...» (Ямато-моногатари, 31-й дан).
«В дом Укё-но ками – дама...» (31-й дан).
«Кайсэн, отправившись в горы...» (50-й дан).
«От Сайин во дворец...» (51-й дан).
И сразу же вслед за этим помещается пятистишие.
Иногда в предшествующей танка повествовательной части буквально тремя словами выражается вся важная информация: «Написано, когда умерла дочь Кимухира...» (Кимухира-га мусумэ сину то тэ) (116-й дан).
Есть и совсем короткие варианты, когда называется лишь имя автора танка:
«Ёдзэйин-но итидзё-но кими...» (47-й дан).
Но примечательно, что в большинстве случаев к такому сокращенному варианту схемы автор прибегает тогда, когда в предыдущих данах уже названы и автор, и получатель танка и сюжетная ситуация приблизительно тоже ясна, например:
«Это тоже императорское [стихотворение]...» (52-й дан).
«Снова тот же принц той же даме...» (79-й дан).
«Тому же принцу – другая дама...» (107-й дан).
«И это та же дама из Цукуси [написала]...» (130-й дан).
Этим словом онадзи («тот же») происходит объединение дана с предшествующим или группой предшествующих. Необходимо отметить, что в самом дане нет иных указаний на то, что об этом персонаже рассказывалось ранее, таким образом, слово онадзи – «тот же» или коно – «этот» выполняет определенную функцию на уровне композиции целого памятника.
Однако, если повествовательная часть эпизода, пусть даже она содержит связующее на уровне композиции звено, представляет собой столь краткую и нераспространенную фразу, встает вопрос, какова же соразмерность поэтического и прозаического начал на протяжении текста памятника, где лежит центр тяжести эпизода, что главное и второстепенное в тексте, что в нем является доминирующим – проза или стихи.
Относительно прозаического окружения танка в Исэ-моногатари Н. И. Конрад писал: «В отличие от Кокинсю прозаические части Исэ не только более развиты по величине, не только играют самостоятельную стилистическую роль, но имеют и очень большое композиционное значение» [38]. «Предисловие к Кокинсю в общем и целом дает, в сущности, не более чем простое основание для темы стихотворения: оно рисует обстановку, среди которой раскрывается лирическое содержание танка» [39]. «...Проза Исэ дает рассказ с подчиненным ему стихотворением» [40].
Чтобы разобраться, каково это соотношение в Ямато-моногатари, стоит, как нам кажется, вопрос о равновесии между стихом и прозой и центре тяжести эпизода поставить как вопрос о рамках текста отдельного эпизода (дана), в таком виде его решение представляется вполне конструктивным.
Под рамками текста мы имеем в виду понятие, раскрываемое исследователями как «граница, отделяющая художественный текст от нетекста и принадлежащая к числу основополагающих. Одни и те же слова и предложения, составляющие текст произведения, станут по-разному члениться на сюжетные элементы в зависимости от того, где будет проведена черта, отграничивающая текст от нетекста. То, что находится по внешнюю сторону этой черты, не входит в структуру данного произведения: это или не произведение, или другое произведение» [41].
Обратясь к японскому литературному материалу, мы можем сделать предположение, что в поэтических антологиях, например с которыми непременно ассоциируется жанр ута-моногатари, текстом, несомненно, является именно танка, а прозаическая часть подчинена ей и обеспечивает некоторые аспекты понимания пятистишия. При этом прозаическая часть является интродукцией к тексту, напоминающей распространенное заглавие, которое включает имя автора и адресата танка и краткое указание на место и обстоятельства складывания танка.
Рассмотрим в качестве примера танка из Кокинсю, сложенную Окикадзэ:
«Когда во времена Канэхира император отдал высочайшее повеление складывать песни наподобие старых, написав „По реке Тацута алые листья клена плывут“, о том же сложил Окикадзэ:
Мияма ёри
Отикуру мидзу-но
Ито митэ дзо
Аки во кагири то
Омохисиринуру
С горы Мияма
Спадающей воды
Цвет увидев,
Что осени предел настал,
Я понимаю» [42].
Рамки текста в этом случае фиксированы началом и концом пятистишия, прозаическая интродукция в понятие текста явно не включена.
Как же обстоит дело с теми эпизодами Ямато-моногатари, где схема сюжетного развертывания повествовательной части построена аналогично прозаической интродукции к танка в поэтических антологиях?
Оказывается, что в Ямато-моногатари картина совсем иная, хотя на первый взгляд в памятнике есть даны, прозаическая часть которых носит подчиненный характер и кажется скорее подспорьем к восприятию художественной информации, чем самой этой информацией.
Видимо, жанру ута-моногатари, для того чтобы обрести самостоятельность и отличаться от разного рода сю – поэтических антологий, домашних стихотворных сборников и т. п., необходимо было утвердить новые рамки текста, вмещающие не только пятистишия, но и равноправную с ними прозу, являющуюся текстом наравне с танка.
По нашим наблюдениям, в Ямато-моногатари как раз происходит активное расшатывание привычных для поэтических сборников рамок текста, заметна тенденция к их расширению и включению повествовательных частей, а в некоторых случаях стремление к смещению рамок текста таким образом, чтобы танка оказалась за границами текста.
Интересно проследить, как именно достигается этот эффект смещения рамок текста и к каким способам (разумеется, неосознанно) прибегает автор Ямато-моногатари, чтобы победить инерцию восприятия, привычную для читателя поэтического сборника, и создать текст ута-моногатари.
Прежде всего необходимо учитывать то обстоятельство, что весь материал Ямато-моногатари, даже если он на первый взгляд кажется не вполне однородным в жанровом отношении, все же объединен самим фактом включения в один памятник. Отсюда следует, что независимо от того, какого рода эпизоды находятся в начале и какие в конце, независимо от усиления и ослабевания, так сказать, степени повествовательности на протяжении всего текста, происходит некоторое выравнивание значимости элементов текста в рамках всей книги. Целостность восприятия произведения, будь оно даже не пьеса, а сюита, всегда обеспечена его существованием в единственном виде, маркированностью начала и конца, сменой и развитием отрезков, понимаемых как составные части целого, и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: