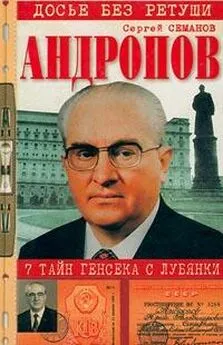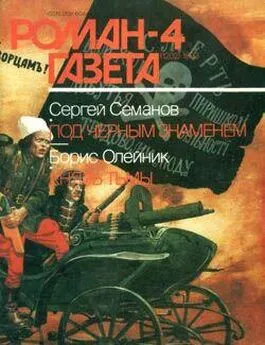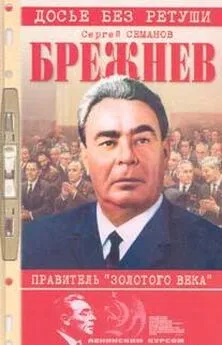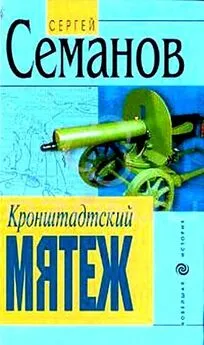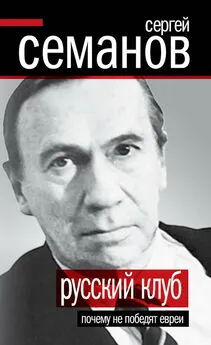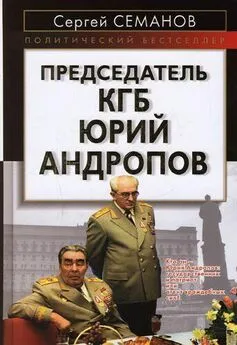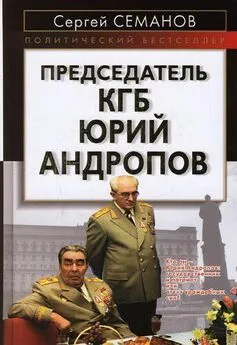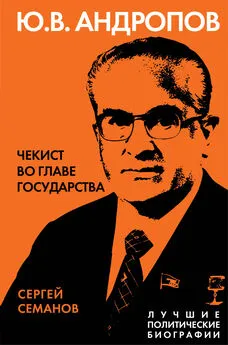Сергей Семанов - Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки
- Название:Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-7838-0939-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Семанов - Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки краткое содержание
Сведения о жизни Юрия Андропова автору этой книги приходилось собирать с великим трудом. Ведь во всей мировой истории Андропов является одним из самых потаенных политических деятелей. Какие тайны скрываются за фигурой генсека с Лубянки? Почему и как глава КГБ стал лидером Советской страны после смерти Леонида Брежнева? Историк Сергей Семанов решил всмотреться в жизненный путь загадочного генсека и оценить его личные качества.
Микроскопический партийно-комсомольский работник в глухой российской провинции, Юрий Владимирович Андропов к исходу жизни неожиданно для всех взлетел на самую-самую кремлевскую высь. Но к этим заветным высям он целенаправленно и терпеливо стремился всю жизнь. Молча, тайно, не имея соратников, а только потаенных соучастников, столь же двуликих, как и он сам, он взлетел наконец на кремлевские небеса. Видимо, во всей мировой истории Андропов стал и останется самым потаенным главой тайной политической полиции! Он всячески укреплял коммунистический строй – и потихоньку подтачивал его. Сажал «диссидентов» в психушки – и одновременно создавал им будущую политическую карьеру. Боролся с буржуазным Западом – и в душе обожал западный образ жизни. Наконец, скрыл от всех свою первую семью и двоих детей, судьба которых – брошенных отцом – сложилась крайне тяжело.
Таков был этот потаенный деятель, неразгаданный и по сию пору.
Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рассмотрим теперь историческую, фактическую подоснову этого повествования. Нельзя не признать: автор изучил обширный круг литературы по своей теме. Кстати говоря, круг этот необычайно велик. Оказавшись не у дел, в эмиграции, огромное множество бывших белых – от «вождей» до самых рядовых капитанов и поручиков – написали свои воспоминания. Они достаточно известны в научной литературе. Мемуаристика эта носила крайне пристрастный, нервный характер. Сводились личные счеты, продолжались взаимные обвинения, наносились печатные оскорбления друг другу, выплескивалось наружу все порочащее противников (нередко и придуманное). В этом обилии взаимных обвинений и просто дрязг в избытке можно отыскать всякого рода злачный, а то и пикантный материалец.
Некоторые сцены в романе точно изложены по воспоминаниям А.И. Деникина «Очерки русской смуты» (убийство генерала Романовского в Константинополе и др.). Много почерпнуто из «Записок» П.Н. Врангеля, часто идет прямой пересказ этих воспоминаний, названных в романе почему-то «дневником». Используются и даже перелагаются целые эпизоды из многих иных, гораздо менее известных произведений белогвардейской мемуаристики. Например, биография последнего командира дроздовской дивизии А.В. Туркула излагается по его книге «Дроздовцы в огне» (Белград, 1937), а некоторые подробности из истории «героев» марковской дивизии – по двухтомнику «Марковцы в боях и походах за Россию» (Париж, 1962, 1964). Сообщаются даже некоторые подробности из воспоминаний матери генерала Врангеля, опубликованных И.В. Гессеном в 20-х годах в Берлине [9]. Широко использованы и воспоминания Александра Вертинского, опубликованные уже в Советском Союзе (например, многие сцены с генералом Слащевым), хотя сам Вертинский, пробывший всю врангелевскую эпопею в Крыму, в романе не упомянут.
Словом, литературные источники использованы многочисленные, хотя дело не обошлось и без ошибок. Назовем лишь некоторые. Известный А.В. Кривошеин был не «министром земледелия», а главноуправляющим главного управления землеустройства и земледелия – это ведомство получило статус министерства уже после уход Кривошеина (26 октября 1915 года). Один из героев сделался действительным статским советником и тем самым почти догнал по чинам своего отца генерал-майора, говорится в авторском тексте; «почти» тут совершенно излишне и свидетельствует о неуверенности автора в предмете: названный гражданский чин по Табели о рангах точно соответствовал генерал-майору. Деникина дразнили не «царь Антон», а «царь Андрон», об этом много писалось у нас в 20-х годах, например М.Н. Покровским. На Крым (по-тогдашнему – Таврическую губернию) не распространялась власть гетмана Скоропадского. Петербургский институт горных инженеров почему-то называется «привилегированным» и т.д.
Итак, автором за источник взяты белогвардейские мемуары. Источник, что и говорить, своеобразный, переполненный ненавистью, истерией и проклятиями. Если строить повествование на этом материале, то действие неизбежно замкнется в пределах белогвардейской верхушки, – именно этот круг и очерчен в названных мемуарных источниках. Ну а что за его пределами? Как жили и о чем думали в ту пору рабочие севастопольских заводов? Крестьяне, батраки и скотоводы Крыма? Об этом в романе нет даже намека.
«Народ» представлен только в лице денщиков или домашней прислуги – и все они тоже, как на подбор, жадные, злые, туповатые и подловатые. Солдаты, казаки и младшие офицеры (негвардейцы и добровольцы), которые и составляли преобладающую часть врангелевской армии, не показаны совсем, если не считать «массовых» сцен мародерства или потасовок. А ведь множество из этих людей, если не большинство, были втянуты в дело белых по воле случая, порой случая несчастного (вспомним не только Григория Мелехова – ведь и Михаилу Кошевому пришлось полгода провоевать в армии атамана Краснова).
О том, что происходило за пределами белогвардейского Крыма, сообщается лишь в нескольких абзацах справочного характера. Например, о знаменитейшей битве под Каховкой, где прославили свои имена будущие маршалы Советского Союза В.К. Блюхер и Л.А. Говоров, а также о назначении М.В. Фрунзе на Южный фронт и важнейших планах советского руководства – обо всем этом в совокупности говорится в 17 (семнадцати) строках журнального текста.
Да, разумеется, нельзя упрекать произведение за то, чего в нем нет. Не привлекло, стало быть, внимание автора, и все тут. На нет и суда нет. Значит, цель была поставлена именно такая: показать разложение белогвардейщины и тем самым – ее историческую обреченность. Против этого трудно возражать. И разложение, и обреченность – очевидные исторические факты. Но перед нами все же не дневник очевидца, а попытка создания художественного произведения, тут и спрос иной. Разложение разложением, но к чему смаковать грязь и кровь, размазывать все это в трех журнальных книгах? Какая же тут может быть задача и цель?
Обреченность белогвардейщины – тема далеко не новая в советской литературе и искусстве. Память сразу же подскажет имена Михаила Шолохова, Алексея Толстого, Михаила Булгакова. Неплохой список! Так вот: генералы Деникин и Романовский выведены в «Тихом Доне», генерал Марков подробно показан в «Хождении по мукам», а в пьесе «Бег» дано прямое изображение Крыма при Врангеле, то есть та же тема, что у Марка Еленина. Невозможно, конечно, сравнивать текущую беллетристику с литературной классикой. Мы и не собираемся сравнивать в данном случае природу художественности, глубину образов, язык. Речь идет лишь о том, что сравнительно легко выделить из сугубо художественного пласта, то есть о самом жизненном материале, положенном в основу.
У Шолохова, А. Толстого и Булгакова изображены – с необычайной художественной силой! – многие темные стороны белогвардейщины: расправы с пленными, разгульное пьянство, изнасилования. Но разве хоть где-нибудь можно увидеть у названных писателей равнодушие к изображаемому? И разве в «Тихом Доне» тот же генерал Деникин не показан как противник умный и сильный? И разве герои «Бега» только пьянствуют и скандалят, а не размышляют мучительно о судьбах родины и своем собственном неудавшемся пути?
Нагромождая ужасы, словно бы любуясь всем этим кромешным безумием, Марк Еленин низводит трагедию до анекдота, «хохмы».
Вспомним опять-таки «Тихий Дон», сцену отступления, безнадежного бегства Белой армии, казачьего унтер-офицера, измученного, с обмороженными руками, который посреди всеобщего распада тащит с несколькими такими же усталыми людьми тяжелые пушки. «Жизни решусь, а батареи не брошу!» – говорит он. Решимость и стойкость этого обреченного человека не могут не вызвать сочувствия. «Никому не нужный Тушин», – точно и горько определил его характер П.В. Палиевский.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: