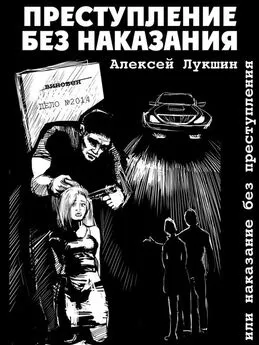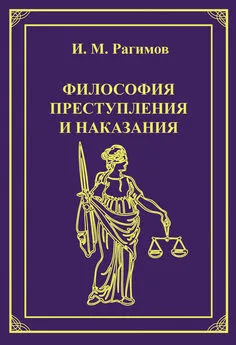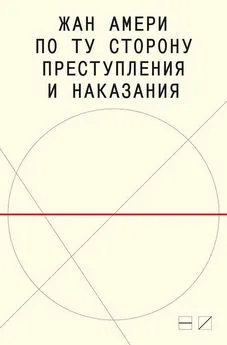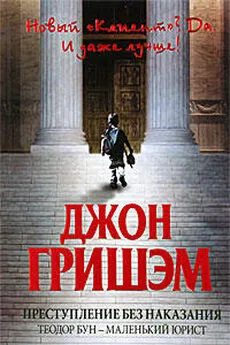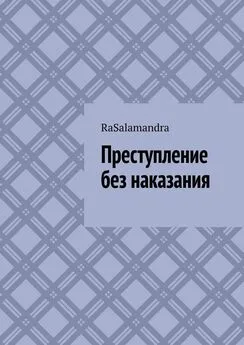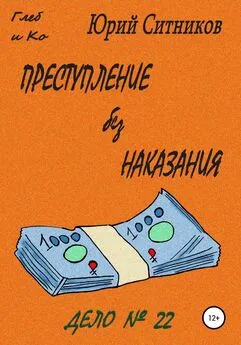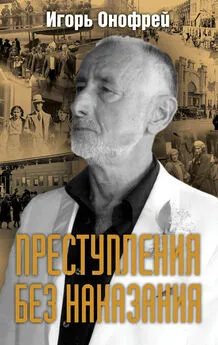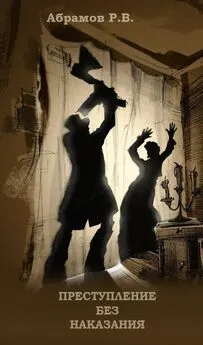Жан Амери - По ту сторону преступления и наказания [Попытки одоленного одолеть] [litres]
- Название:По ту сторону преступления и наказания [Попытки одоленного одолеть] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Новое издательство
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-172-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Амери - По ту сторону преступления и наказания [Попытки одоленного одолеть] [litres] краткое содержание
По ту сторону преступления и наказания [Попытки одоленного одолеть] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нас нельзя сравнить и с теми эмигрантами, что бежали из Третьего рейха исключительно из-за своих убеждений. У них была возможность найти с рейхом общий язык и вернуться – раскаявшись или только проявив молчаливую лояльность, и кое-кто так и сделал, например немецкий романист Эрнст Глезер. Нам же вернуться было нельзя, а потому мы не можем вернуться и сегодня, для нас эта проблема стоит куда острее, куда безотлагательнее. По этому поводу есть анекдот, который я приведу здесь не юмора ради, а только ради иллюстрации. Так вот: в 1933 году к писателю Эриху Марии Ремарку в его дом в Тичино неоднократно приезжали эмиссары геббельсовского министерства, поскольку нацисты хотели склонить «арийских» и оттого не вполне предавшихся злу писателей-эмигрантов к возвращению, к переходу на их сторону. Ремарк остался непреклонен, и тогда посланец рейха спросил его: «Но послушайте, бога ради, неужели вы не тоскуете по родине?» – «Тоскую по родине? С какой стати? – будто бы ответил Ремарк. – Я что, еврей?»
Что до меня, то я, как мне стало понятно в 1935 году после обнародования Нюрнбергских законов, был самым настоящим евреем, а потому тосковал и тоскую по родине, испытываю ужасную, гложущую боль, которая не имеет ничего общего с задушевностью народных песен, не освящена чувствительными условностями и о которой совершенно невозможно говорить в романтическом тоне Эйхендорфа. Впервые я остро ощутил ее, когда стоял в Антверпене у окошка обменного пункта со своими пятнадцатью марками пятьюдесятью пфеннигами, и она так и не покинула меня, как и воспоминание об Освенциме, о пытках, о возвращении из концлагеря, когда я, весивший всего-навсего сорок пять килограммов, одетый в полосатую робу, снова очутился в мире, став еще бесплотнее после смерти единственного человека, ради которого в течение двух лет сохранял жизненные силы.
Что представляла собой тогда и что представляет собой сейчас тоска по родине у людей, изгнанных из Третьего рейха за убеждения и за родословную? Мне не хочется в этой связи пользоваться модным еще вчера понятием, но, по-видимому, более подходящего нет: моя, наша тоска по родине была самоотчуждением. Прошлое внезапно оказалось погребено под завалами, и ты больше не знал, кто ты такой. В те дни у меня еще не было звучащего на французский манер псевдонима, которым я сегодня подписываю свои работы. Моя идентичность была связана с простым немецким именем и диалектом страны моего происхождения. Но пользоваться этим диалектом я себе не разрешал— с того дня, когда официальным распоряжением мне запретили носить национальный костюм, в каком я с раннего детства ходил почти всегда. В такой ситуации и имя, которым меня с этим же диалектным выговором всегда называли друзья, тоже не имело значения. Оно, правда, вполне годилось для занесения в список нежелательных иностранцев в антверпенской ратуше, где фламандские чиновники произносили его так странно, что я едва его узнавал. Да и друзья, с которыми я разговаривал на родном диалекте, исчезли. Только они? Нет, все, что наполняло мое сознание, от истории моей страны, что уже не была моей, до пейзажей, воспоминание о которых я подавлял: они стали для меня невыносимы с того утра 12 марта 1938 года, когда даже из окон отдаленных крестьянских дворов вывесили кроваво-красные полотнища с черным пауком на белом фоне. Я был человеком, который более не мог говорить «мы» и оттого просто по привычке, но не чувствуя на то полного права, говорил «я». Иногда в разговоре с более или менее благожелательными антверпенскими знакомыми я случайно ронял: «У нас дома по-другому». «У нас» – для моих собеседников это звучало совершенно естественно. А я краснел из-за своей самонадеянности. Я перестал быть я и не принадлежал более к сообществу мы. У меня не было ни паспорта, ни прошлого, ни денег, ни истории. Был только ряд предков, состоявший из печальных, безродных, преданных анафеме рыцарей. Задним числом у них отняли еще и право на родину, и мне пришлось взять с собой в изгнание только тени.
«Откуда вы таки будете?» – спросил меня как-то на идише один польский еврей, для которого скитания и изгнание были столь же неотъемлемой частью семейной истории, как для меня – потерявшая смысл оседлость. Ответь я, что я из Хоэнэмса, он бы, конечно, не сообразил, где это. Да и не все ли равно, откуда я? Его предки бродили с узелком по деревням под Львовом, а мои – в кафтанах между Фельдкирхом и Брегенцем. Разница исчезла. СА и СС не лучше казаков. А тот человек, которого у меня дома называли фюрером, гораздо хуже царя. У еврея-скитальца было больше родины, чем у меня.
Если мне позволено дать уже здесь первый предварительный ответ на вопрос, сколько родины нужно человеку, я хотел бы сказать: тем больше, чем меньше он может взять с собой. Ведь существует что-то вроде передвижной родины или, по крайней мере, эрзац-родины. Это может быть религия, например иудейская. «На будущий год в Иерусалиме» – испокон веков обещали друг другу евреи во время пасхального ритуала, причем речь шла вовсе не о том, чтобы действительно прийти в Святую землю, достаточно сообща произнести эту формулу и осознать свое единство в магическом пространстве отечества родового бога Яхве.
Эрзацем родины могут быть и деньги. У меня до сих пор стоит перед глазами антверпенский еврей, бежавший в 1940 году от немецких оккупантов: он сидел на фландрском лугу, доставал из ботинка доллары и со степенной серьезностью их пересчитывал. «Везет же вам, у вас столько наличных!» – с завистью сказал ему другой еврей, а пересчитывавший купюры с достоинством отвечал на своем фламандском, сильно окрашенном идишем: «В такие времена человек со своими деньгами не расстается». Он вез с собой родину в доброй американской валюте: ubi dollar ibi patria [3] Где доллар, там и родина (лат.).
.
Слава и признание также могут порой заменить родину. В воспоминаниях Генриха Манна «Обзор века» я прочел следующие строки: «Мэру Парижа назвали мое имя. Он встретил меня с распростертыми объятиями: C’est vous, l’auteur de l’Ange Bleu! [4] Это вы, автор «Голубого ангела»! (фр.)
Большей славы я не знаю». Великий писатель иронизировал, его явно уязвило, что французскому чиновнику только и известно о нем, что он написал роман, легший в основу фильма «Голубой ангел». Как неблагодарны бывают великие писатели! Генрих Манн нашел убежище на родине славы, пусть ее почти и затмевали ноги Марлен Дитрих.
Что касается меня, то затерянный в очереди беженцев, стоявших за еженедельным пособием у Антверпенского еврейского комитета помощи, я был начисто лишен какого бы то ни было убежища. Знаменитые тогда или мало-мальски известные немецкоязычные писатели-эмигранты, чьи свидетельства о времени, проведенном на чужбине, собраны теперь в выпущенном издательством «Вегнер» томе «Изгнание», встречались друг с другом в Париже, Амстердаме, Цюрихе, Санари-сюр-Мер, Нью-Йорке. У них тоже хватало забот, и говорили они о визах, разрешениях на жительство, гостиничных счетах. Но в их разговорах речь шла и о рецензиях на недавно вышедшую книгу, о заседании Союза защиты писателей, о международном антифашистском конгрессе. Кроме того, они жили в иллюзии, что их голос есть голос «подлинной Германии», который за рубежом мог громко возвыситься в защиту отечества, скованного кандалами национал-социализма. Ничего подобного нельзя сказать о нас, анонимах. Никаких игр с воображаемой «подлинной Германией», унесенной с собой, никаких формальных ритуалов сохраняемой в изгнании до лучших времен немецкой культуры. Бытие безымянных беженцев больше соответствовало немецкой и международной реальности: определяемое им сознание позволяло, требовало, вынуждало основательнее познавать действительность. Они знали, что были изгнанниками, а не хранителями незримого музея немецкой духовной истории. Они лучше понимали, что их лишили родины, и, не располагая никакой передвижной эрзац-родиной, могли отчетливее осознать, как нужна человеку родина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Жан Амери - По ту сторону преступления и наказания [Попытки одоленного одолеть] [litres]](/books/1059146/zhan-ameri-po-tu-storonu-prestupleniya-i-nakazaniya.webp)