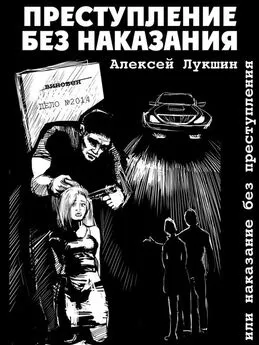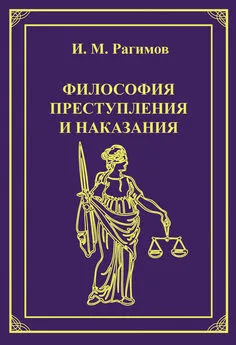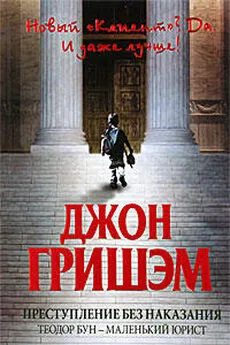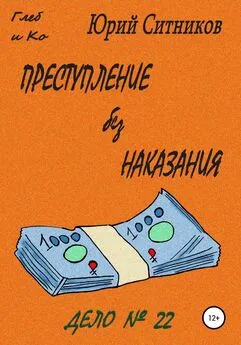Жан Амери - По ту сторону преступления и наказания [Попытки одоленного одолеть] [litres]
- Название:По ту сторону преступления и наказания [Попытки одоленного одолеть] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Новое издательство
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-172-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Амери - По ту сторону преступления и наказания [Попытки одоленного одолеть] [litres] краткое содержание
По ту сторону преступления и наказания [Попытки одоленного одолеть] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В годы изгнания сродни отношению к родине было и отношение к родному языку. В известном смысле мы утратили и его и начать процесс о реституции не можем. В вышеупомянутой книге «Изгнание», сборнике свидетельств о жизни немецких писателей на чужбине, я прочел заметки философа Гюнтера Андерса, где говорится: «Никто не способен годами жить в пространстве языков, которыми он не владеет и на которых в лучшем случае убого лопочет, не став при этом жертвой своей речевой неполноценности… Мы еще не выучили английского, французского, испанского, а наш немецкий уже начал мало-помалу рассыпаться, зачастую так неявно и постепенно, что мы не замечали потери». Но этим языковая проблема изгнанника отнюдь не исчерпывается. Вместо «рассыпаться» в отношении родного языка я скорее употребил бы слово «ссыхаться». Мы жили не только в ареале иностранной речи, но, когда обращались к немецкому языку, в узком пространстве постоянно повторяющегося словаря. Разговоры с товарищами по несчастью вынужденно крутились всегда вокруг одних и тех же предметов – сначала вопросов о средствах к существованию, о разрешениях на жительство и проездных документах, позднее, при немецкой оккупации, о реальной смертельной опасности. Собеседники не привносили в наш язык ничего нового, лишь давали нам собственное зеркальное отражение. Мы постоянно находились в кругу одних и тех же тем, слов, фраз, в крайнем случае самым уродливым образом обогащали свою речь формулами языка страны, нас принявшей.
А на враждебной родине языковые процессы шли своим чередом. Не то чтобы язык, возраставший на тамошней почве, отличался красотой, вовсе нет. Но он – вкупе с вражескими бомбардировщиками, последствиями войны, фронтовыми распредпунктами, даже всем специфическим нацистским жаргоном – был языком реальности. Всякая развитая речь предполагает метафоры, идет ли речь о дереве, упрямо тянущем к небу голую ветку, или о еврее, по каплям вливающем яд Передней Азии в тело немецкого народа. Материал для метафор всегда дает очевидная, чувственная реальность. Мы были отрезаны от немецкой реальности, а тем самым и от немецкого языка. Большинство из нас чурались языковых обрывков, которые заносило в оккупированные страны из Германии, приводя в принципе законный, но на практике лишь относительно уместный аргумент, что там язык уродуют, а задача эмигрантов – сохранить немецкий язык «в чистоте». При этом они отчасти изъяснялись на своей эмигрантской тарабарщине, а отчасти на искусственном языке, на наших глазах покрывавшемся безобразными старческими морщинами, и вдобавок не имели представления, какое количество языкового добра или, если угодно, языкового сора этого времени сохранится в Германии потом, после падения Гитлера, и войдет в состав литературного языка.
Другие, как и я сам, безнадежно пытались цепляться за продолжавший свое развитие немецкий язык. Ежедневно, несмотря на крайнее отвращение, я читал газету «Брюсселер цайтунг», орган германской оккупационной власти на Западе. Она не испортила мой язык, но и не продвинула его вперед, ведь я был отрезан от судеб немецкого общества, а тем самым от языка. «Вражеские бомбардировщики» – для меня это были немецкие самолеты, которые превращали в руины английские города, а не «летающие крепости» американцев, творившие то же самое в Германии. Смысл каждого немецкого слова для нас менялся, и в конце концов – сопротивлялись мы тому, нет ли – родной язык становился для нас столь же враждебным, как и те, кто говорил на нем вокруг нас. И в этом отношении наша участь весьма отличалась от судьбы эмигрантов, живших в безопасности в Соединенных Штатах, Швейцарии, Швеции. Слова наливались тяжестью реальности, а она была смертельной угрозой. «Снова лес и дол покрыл…» – любое из этих слов мог бы произнести убийца, стоявший перед нами с обнаженным кинжалом. Лес и дол – там можно бы попробовать укрыться. Но в мягком мерцании тумана тебя обнаружат гонители. Надо ли объяснять, что столь тяжкое реальное содержание родного языка угнетало нас на чужбине во время немецкой оккупации, длилось это ужасающе долго и до сих пор продолжает отягощать нашу речь.
Однако оттого, что родной язык проявлял враждебность, по-настоящему подружиться с чужим вовсе не удавалось. Он держался и по сей день держится холодно, а нас принимает лишь с короткими визитами вежливости. Можно его навестить, comme on visite des amis [5] Как навещают друзей (фр .).
, но это совсем не то что остановиться у друзей. «La table» никогда не будет «столом», в лучшем случае за ним можно наесться досыта. Отдельные гласные чужого языка, пусть даже им присущи те же физические качества, что и гласным родного, и те были чужими и чужими остались. Тут мне вспоминаются первые дни антверпенской эмиграции: я услышал, как мальчик, разносчик молока, отпуская свой товар у двери какого-то дома, сказал «да» на своем нидерландском, сильно окрашенном фламандским диалектом, он произнес это слово с таким же глубоким, близким к «о» звуком «а», как у меня на родине. «Да» было знакомым и одновременно чужим, и я понял, что в другом языке у меня всегда будет только право гостя. Мальчик складывал губы совсем не так, как я привык. Дверь, перед которой он произнес свое «да», выглядела не так, как у нас дома. Небо над улицей было фламандским небом. Каждый язык – часть совокупной реальности, на которую нужно иметь обоснованное право собственности, если собираешься войти в пространство языка твердым шагом и с чистой совестью.
Я пытался проследить и выяснить, что означала утрата родины и родного языка для нас, изгнанников из Третьего рейха. Однако напрашивается вопрос – да и название этой главы требует ответа, – какой смысл мой современник в общем и целом, отвлекаясь от личной судьбы, вкладывает в слово «родина». Настрой эпохи не благоприятствует мыслям о родине, это очевидно. Как только слышишь разговор на эту тему, сразу приходят на ум узкий национализм, территориальные притязания и союзы изгнанных, все эти приметы вчерашнего дня. Родина – разве это не блекнущая ценность, не понятие, извлеченное из старого сундука, еще полное эмоций, но уже теряющее смысл, не имеющее реального соответствия в современном индустриальном обществе? Поживем – увидим. Но прежде нужно коротко прояснить, как соотносятся между собой родина и отечество, ведь широко распространенная точка зрения все же признает относительную ценность родины с ее региональной, фольклорной ограниченностью хотя бы в качестве некоего живописного украшения, отечество же воспринимается как нечто глубоко подозрительное, демагогический лозунг, воплощение реакционной косности. L’Europe des patries [6] Европа наций (фр.).
– звучит нехорошо, это ведь навязчивая идея старого генерала, который вскоре останется в арьергарде эпохи.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Жан Амери - По ту сторону преступления и наказания [Попытки одоленного одолеть] [litres]](/books/1059146/zhan-ameri-po-tu-storonu-prestupleniya-i-nakazaniya.webp)