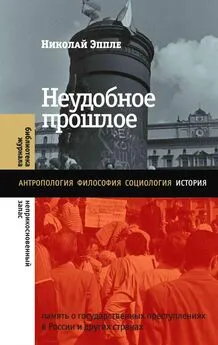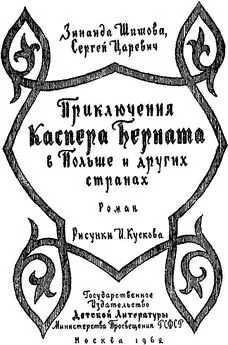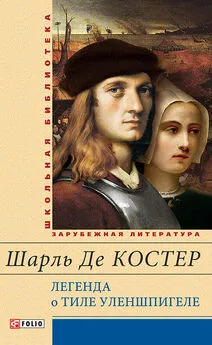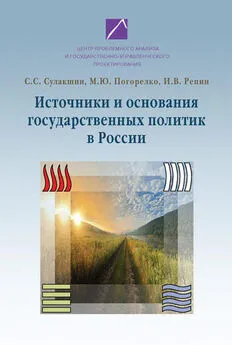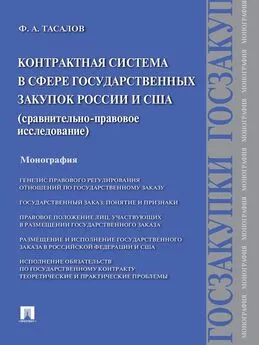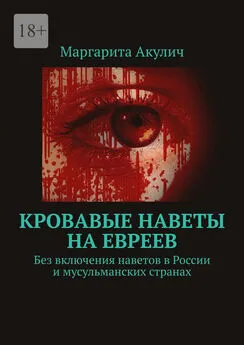Николай Эппле - Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах
- Название:Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1414-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Эппле - Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах краткое содержание
Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подчиненный исполнительной власти суд, главенство представлений о «социалистической законности» (примат «государственной целесообразности» над правами граждан), карательная судебная система, которую хронически не получается реформировать, — все это наследие сталинской модели [149] Pallot J. The Topography of Incarceration: The Spatial Continuity of Penality and the Legacy of the Gulag in Twentieth- and Twenty-First-Century Russia // Laboratorium: Russian Review of Social Research. 2015. № 7, 1. P. 26–50. [Тематический выпуск журнала, целиком посвященный наследию ГУЛАГа в современной повседневности.]
. Оттуда же родом и российские силовые структуры с их сверхцентрализацией и раздутыми штатами при крайне низком КПД. Сталинским наследием являются и широчайшие полномочия прокуратуры, которая не только выступает от имени государства на уголовном процессе, но и осуществляет «общий надзор», не занимаясь при этом защитой прав граждан. Это облегчает ее воздействие на судебный процесс, в том числе в политических и экономических делах.
Рост числа политически мотивированных репрессий после 2014 года — результат не только сознательного поворота власти к репрессиям, но и самой логики устройства правоохранительной системы, когда показательная активность — лучший способ для ведомства засвидетельствовать свою значимость в структуре государства. Волна свидетельств о пытках и издевательствах в российских колониях летом 2018 года в очередной раз напомнила, что современная система исправления наказаний тоже несет на себе «родимые пятна» ГУЛАГа [150] См., напр.: The Evolution of Prisons and Penality in the Former Soviet Union // The Journal of Power Institutions of Post-Soviet Societies. 2018. Issue 19.
. Она «осталась государством в государстве — закрытым, провоцирующим сотрудников на жестокость и отношение к заключенному как к трудовому ресурсу, а не к личности».
В данном случае можно говорить о буквальной преемственности:
По оценке правозащитников, более 10 % сотрудников ФСИН — дети и внуки сотрудников ГУЛАГа и его советских преемников [151] Леонова К. Архипелаг ФСИН. Как устроена экономика тюремной системы России // Секрет фирмы. 2017. 30 января. https://secretmag.ru/arhipelag-fsin.htm/ .
.
Это даже не моральная, а социальная проблема. Династическая воспроизводимость системы в значительной степени связана с тем, что в «местах не столь отдаленных» трудно найти работу вне системы ФСИН, а люди со стороны не слишком рвутся на такие рабочие места.
Наконец, огромное число родовых черт советской политической полиции сохраняет ФСБ, сотрудники и руководители которой прямо заявляют, что считают свое ведомство наследником КГБ — НКВД — ВЧК. Это совершенно закрытое ведомство, неподконтрольное ни обществу, ни гражданским властям. Судя по знакам, что время от времени доносятся из этого «черного ящика», и сегодня многие в этой организации, как и в сталинские годы, озабочены не безопасностью страны и соблюдением законов, а борьбой за расширение своего влияния.
Институциональное наследие не ограничивается госуправлением и ролью силовых структур. Огромная часть действующих сегодня в России институтов родом из советского времени. Приведем только один пример. Сегодняшняя система здравоохранения с ее административно-командным устройством, фрагментированностью, сословностью и госкорпоративностью — прямая наследница советской «системы Семашко», «для вида прикрытой фиговыми листочками страховой модели» [152] Назаров В., Сисигина Н. Система здравоохранения: воскрешение динозавра // Ведомости. 2015. 13 июля. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/14/600422-voskreshenie-dinozavra.
. Много лет буксующие попытки выстроить новую работающую страховую модель связаны как раз с необходимостью демонтажа советского наследия, до сих пор в полной мере не осуществленного [153] Rocky road from the Semashko to a new health model. Interview by Fiona Fleck // Bulletin of the World Health Organisation. 2013. Issue 91 (5). P. 320–321.
.
Социальные механизмы
Третья группа влияний — социальное наследие сталинизма. Главный пережиток советской модели — государственная монополия на коллективность. Именно она объясняет панический страх властей перед возникновением горизонтальных связей и способностей к гражданскому взаимодействию. Именно отсюда болезненная реакция власти на несистемную оппозицию и любую несистемную активность вообще, борьба с НКО и партийным строительством «снизу», попытки контролировать националистов и футбольных фанатов. Попытка удержать госмонополию на коллективность объясняет и стремление во что бы то ни стало ответить на «Болотную» — «Поклонной», на шествие против войны на Украине — концертом в честь присоединения Крыма и т. д.
В такой среде государству не нужно заново выстраивать инфраструктуру тоталитаризма — достаточно поддерживать привычную социальную дезинтеграцию, выпалывая ростки чего-то нового по мере их возникновения, а в случае опасности — провоцировать социальные разделения, настраивая разные части общества друг против друга. Именно в этой среде столь успешным оказывается метод манипулятивного сплочения общества против внешних и внутренних врагов: основа идеологии Большого террора. Общество не умеет солидаризироваться вокруг ценностей, но хорошо сплачивается против общего врага. Причем список врагов также унаследован напрямую из сталинского прошлого. Помимо Запада, это любые иные внутри общества — от «инородцев» (ненависть к ним нагнеталась и эксплуатировалась в ходе «национальных» спецопераций 1937–1938 годов и депортаций военного времени) до «пятой колонны» инакомыслящих.
Именно в результате проводившейся поколениями целенаправленной работы по дезинтеграции большая часть общества не умеет руководствоваться ценностями в социальной жизни. Ценности слишком часто дискредитировались, их носителей убивали или заставляли от них отречься. Поэтому в обществе отсутствуют представления о ценностях как о константе, о том, чем можно руководствоваться в жизни. Сами ценности не забыты, они просто изгнаны из социально-политической реальности в сферу личных отношений. В ситуации отсутствия убеждений и ценностей многим остается только одно — поддерживать силу, неважно, «светлую» или «темную».
Прямое следствие подобного положения вещей — предпочтение на уровне массового сознания идеи «сильного государства» перед идеей ценности каждого отдельного человека. Выбор из этой пары — необходимое условие определения приоритетов развития государства и общества. Сделать его россиянам мешает не принадлежность к «либеральной» или «государственнической» системе взглядов, а гораздо более трудно поддающиеся рационализации психологические механизмы.
Часть II
АНАЛИЗ
.
ВВЕДЕНИЕ
Прежде чем обращаться к анализу опыта шести представленных в этой части стран, стоит объяснить их выбор и то, что осталось в результате этого выбора вне рассмотрения. В XX и начале XXI века путь от диктатуры к демократии с большим или меньшим успехом проделали десятки стран. Поэтому любое предпочтение нескольких из них будет представлять собой выборку, к репрезентативности которой возможны вопросы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: