Георгий Кублицкий - Про Волгу, берега и годы
- Название:Про Волгу, берега и годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Кублицкий - Про Волгу, берега и годы краткое содержание
Про Волгу, берега и годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…Когда возле Городца, первой большой пристани по дороге из Горького к Рыбинскому морю и к Москве, сооружалась гидростанция, мало кого интересовала деревянная городецкая резьба, "фараонки", пряничные доски. Стройка, которая должна была дать Волге третье море, заслоняла все остальное. Писали о водосливной плотине, о шлюзах, о заводах железобетонных плит, о миллионах кубометров грунта. Писали о Заволжье, новом городке гидростроителей на правом берегу реки. Лишь мимоходом в путеводителях упоминалось: миновав стройку Горьковской ГЭС, теплоход подходит к пристани Городца, одного из древнейших поселений Поволжья, где раньше занимались постройкой деревянных барж, а последнее время строят железобетонные дебаркадеры.
Теперь в Городец едут смотреть резьбу. Гидростанций у нас много. Горьковская не самая крупная из волжских, и уж, конечно, далеко ей до Братской или Красноярской. К гидростанциям, даже великим, мы привыкаем, если уже не привыкли. Создавая колоссы с техническим размахом и блеском века, одновременно сильнее ощущаем тягу к родной старине, все бережнее относимся к оставшимся ее бесценным памятникам.
Люди старшего поколения часто слышат:
— Ну как это могло случиться? Жечь иконы? Разрушать старинные церкви!
Справедливые упреки! Но вспомним, когда летели в печку иконы. Почти всегда это было ответом на чуждые и враждебные народу действия церкви. Так, мстя за зверства святой инквизиции, толпы простолюдинов разнесли в свое время множество католических церквей и монастырей Европы, уничтожив собранные в них сокровища искусства.
Когда патриарх всея Руси Тихон во время голода 1921 года поднял бунт против того, чтобы отдать народное народу, против того, чтобы часть церковных ценностей пошла на закупку хлеба, — легко ли было отделить в сознании икону древнего письма от попа, прячущего золотые чаши, кресты и серебряные иконные оклады в яму на огороде? В жестоком ответном запале, в остервенении, иногда, может, от желания "выместить злобу", многое было тогда зря разрушено и уничтожено. Сожалея об утраченных памятниках вместе с искусствоведом, читающим лекцию о русском церковном зодчестве, не будем забывать о крутых поворотах истории.
Увы, некоторые памятники стали позднее жертвой невежества деляг, людей, не знавших и не понимавших отечественной истории, примитивно полагавших, что, сокрушая купола древних церквей и списывая иконы на дрова, они борются с религией…
А теперь в Городец.
Зеленый высокий яр прорезан оврагами, но не безобразно расползающимися, а давно остановленными, обсаженными деревьями. По этим оврагам — живописные съезды к Волге. Поднимешься от пристани — ну что за прелесть наверху! Пряничные, сказочно узорчатые домики не упрятаны в заповедник, а просто стоят себе на улицах. Глаза разбегаются!
Резные наличники, карнизы, причелины и прочие "архитектурные излишества" не просто украшают жилье. Они как бы подтягивают весь облик улицы. Старая часть города нарядна и радостна. Красота плохо уживается с грязью. Нельзя, наверное, любовно украшать дом белым деревянным кружевом наличников и не мести улицу, мириться с покосившимся забором, с лужей под окнами.
Городец — не только дерево. Здесь и железо удивительное, есть старинные крыльца с витыми железными колоннами, с замысловатыми узорами.
Истоки резьбы и литья — в городецкой древности.
Машинально читаешь на перекрестках: "ул. А. Невского", "ул. А. Рублева"… Постойте, так ведь Александр Невский не раз наезжал в Городец и встретил свой смертный час за оградой здешнего Федоровского монастыря! Рублев же, великий Андрей Рублев, вот как помянут в записи о живописцах собора Благовещения в Московском Кремле: "А мастеры бяху Феофан иконик Гречин да Прохор старец с Городца да чернец Андрей Рублев". Названный после Феофана Грека городецкий старец Прохор был учителем, а позднее помощником Рублева. "Успение" и "Вознесение" в кремлевском соборе — его работа.
Федоровский монастырь, где умер Невский и писал иконы старец Прохор, к сожалению, не уберегли. Осталось кое-что, но так мало, что и реставрировать в сущности нечего.
Изображение же монастыря сохранилось. Писано оно псаломщиком села Лисья Поляна Вуколом Федоровским. В городецкой округе художниками были не только псаломщики, но и крепостные крестьяне, бурлаки, плотники. Городецкий житель Токарев-Казарин зарабатывал на хлеб сапожным ремеслом, а по ночам мастерил резную горку; ее берегут теперь, как сокровище искусства.
— Здесь исстари умели украшать быт, состязались у кого дом наряднее, привлекательнее. Не просто пекли пряники, но делали формы для теста столь диковинные, с такой буйной фантазией, что стал городецкий пряник ходким приманчивым товаром, купцы развозили его с Нижегородской ярмарки по всей матушке-Руси, закупали для Тегерана и Стамбула. Были пряничные доски-формы с вырезанными пароходами, у которых из всех труб дым валит, и волны вокруг; а на других — колесницы, павлины, паровозы и еще надписи: "Дарю Зине", "Дарю Мане".
Ну, ладно, пряники — дело торговое. Но вот обыкновенный валёк, каким до изобретения стиральных досок и стиральных машин прачки колотили мокрое белье. Вещь бытовая, не напоказ. И все же Городецкий умелец покрыл верхнюю его сторону резьбой, резьбу раскрасил, а ручку сделал в виде человеческой руки с пальцами, сжатыми в кулак. Ткацкие станки тоже покрыты резьбой. О дугах и говорить нечего — вещь заметная, как можно не изукрасить ее всю и росписью и резьбой: пусть добрые люди любуются!
Городецкая глухая резьба — трудоемкое искусство деревянного барельефа. Сюжеты резчики брали разные. Часто изображалась, например, "фараонка" — фантастическая полуженщина-полурыба, речное божество с чешуйчатым туловищем и причудливо закрученным хвостом. Но фризы с "фараонкой" теперь редкость. Глухая резьба с годами была заменена прорезной, когда рисунок выпиливался по трафарету на гладкой доске. Это проще, быстрее.
Роспись в Городце своеобразная, не похожая, скажем, на хохломскую: другие краски, другой орнамент. Одно время дело это совсем замерло, захирело, потом здешние мастера снова взялись за кисти. Особенную известность получила городецкая роспись после международной выставки в Монреале. Понадобились восторги в Канаде, чтобы подтолкнуть кое-кого на Волге.
Расписанные Городецкими мастерами изделия стали модным товаром в магазинах сувениров. В местном музее жалуются:
— Мы просили для экспозиций. Дали остатки, что поплоше. Лучшее все пошло за границу. Спрос, говорят, очень большой.
Так-то вот!
Но кажется мне, что возрождена роспись не без утрат. Сейчас пишут ярко, декоративно, броско, однако все же скучновато в сравнении со старыми работами. Вон прежний мастер Игнатий Мазин изобразил пролетку с неким усатым господином в фуражке с кокардой, весьма грудастую особу, да еще с собаченцией — и все, включая пса, так наивно, уморительно важны… А кони! Грива — как борода ассирийского царя. Я бы сказал, что у Мазина — чудесное простодушие Пиросманашвили, которого не заметишь в нынешней городецкой росписи. В ней больше профессионализма, но, насколько можно судить, дело до сюжета теперь доходит редко, обходятся обычно орнаментом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
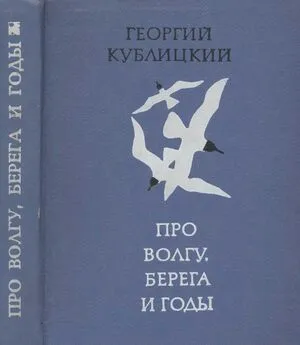









![Георгий Кублицкий - Таймыр, Нью-Йорк, Африка... [Рассказы о странах, людях и путешествиях]](/books/1073752/georgij-kublickij-tajmyr-nyu.webp)