Георгий Кублицкий - Про Волгу, берега и годы
- Название:Про Волгу, берега и годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Кублицкий - Про Волгу, берега и годы краткое содержание
Про Волгу, берега и годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Может быть, нет этого ощущения близости с прошлым потому, что барская усадьба екатерининских времен внутренне чужда музе поэта? Недостает чего-то очень некрасовского, и только некрасовского. Возможно, это некрасовское ушло в те времена, когда Карабиху постигла судьба многих усадеб, и прежде, чем стать музеем, чем только она не была: совхозом, детским домом, санаторием, домом отдыха…
Неуважение к памяти великого поэта? Не совсем так. Скорее обстоятельства, сделавшие Карабиху в канун революции заурядной помещичьей усадьбой, в которой почти выветрилась память о певце народного горя.
Но сначала об одной встрече.
На скамейке подле входа в музей — старичок с совершенно некрасовской бородкой. Реденькие волосы, худ, щеки впали, и если бы не загар, ну хоть сейчас пиши с него больного Некрасова времен "Последних песен". Уж не дальний ли родственник, какой-нибудь правнучатый племянник? Но неудобно спросить прямо…
— Скажите, пожалуйста, а не сохранилось ли место, именуемое, если не ошибаюсь, "бельвю"?
— А как же! Мимо флигеля по тропочке, там увидите огромную лиственницу, подле нее стенка кирпичная обрывается, скамейка поставлена. В том самом месте поставлена, где Николай Алексеевич сиживать любил Вид оттуда превосходнейший.
Дальше — больше, слово за слово. Старичок — ходячая энциклопедия здешних мест. Все знает, все помнит. Тут кричат ему в открытое окно из музейной канцелярии:
— Виктор Михайлович, к телефону вас!
Осенний день тих, разговор слышен и на дворе. Старичка приглашают выступить в одной из ярославских школ.
— Не могу я в пятницу, дорогие мои. Уж обещал. Вот разве в понедельник.
Так кто же он? Рискую спросить прямо.
Виктор Михайлович Ковалев из тех, кто с 1947 года трудился над восстановлением музея. Нет, он не литературовед, не искусствовед.
— Вот эти камни своими руками укладывал. Деревья сажал. Одних берез около тысячи посадили, чтобы все было как при Николае Алексеевиче.
— Об этом и рассказываете ребятам?
— Нет, об этом мало. Ребята больше интересуются революцией.
Виктор Михайлович — ему 75 годков минуло — до революции работал токарем в Питере, на Охтенском пороховом заводе. В апреле 1917 года рабочие пошли встречать Ленина на Финляндский вокзал. Шли пешком, было далеко, опоздали. На следующий день ходили к дворцу Кшесинской. Потом молодой рабочий воевал против Юденича. Демобилизовавшись, поехал к отцу на Ярославщину. В 1924 году после смерти Владимира Ильича по ленинскому призыву вступил в партию. Был с тех пор на разных работах, а когда вышло решение восстанавливать музей, переехал в Карабиху, и с тех пор здесь, в маленьком домике под старой липой. Сейчас — персональный пенсионер.
— Куда же я отсюда? Как можно?
Вот от него-то я и услышал вещи, в общем, давно известные, но на этот раз окрашенные личным отношением.
— Почему, спрашивается, усадьбу с первых дней революции не взяли под охрану? Да потому, что тут от Николая Алексеевича уже не оставалось почти ничего вовсе. Еще Николай Алексеевич жив был, когда все имение перевел на брата. А тот — мужик хозяйственный, оборотистый. Портреты, может, видели? В музее висят рядышком, как раз в день передачи имения братья обменялись ими — два, говорю, брата, а сходства даже в выражении лиц мало. Федор-то сразу шуровать начал, все перестраивать. Что не выгодно, деньгу не дает — долой! Винокурением очень интересовался, скот разводил. Копил, приумножал. Главный дом занял, Николай Алексеевич, приезжая, жил во флигеле. Когда в тринадцатом году Федор умер, говорят, семь миллионов у него было. Может, и прибавляют. А сын его Борис и вовсе помещиком стал. Ну, конечно, после революции реквизировали имение.
Может, в подробностях рассказа преувеличение, даже искажение. Но верно главное, объясняющее, почему Карабиха, во многом перестав быть некрасовской Карабихой, сразу после революции не попала под охрану государства, не стала предметом народного благоговения. И лишь с большим трудом ей почти возвращен прежний, давний облик, освобожденный от следов предпринимательства брата Федора.
Но разве некрасовские места — только Карабиха и ее окрестности? По меньшей мере это вся Ярославщина — Волга, негустые леса, заливные луга, песчаные косы бурлацкого бечевника, проселки, монастыри, охотничьи, излюбленные перелетной птицей болота…
"Всему начало здесь, в краю моем родном!.." И многие забывают, что родился Некрасов далеко от Волги, в бывшей Подольской губернии. С трех лет, с первых неясных воспоминаний — ярославская деревня Грешнево на бойкой дороге, по которой из Ярославля в Кострому катили тарантасы и помещичьи рыдваны, шли плотницкие артели, коробейники, странники, бродячая, неустроенная горемычная Русь. Потом Ярославль, гимназия, первые стихи, а летом снова Грешнево — лакеи, музыканты, борзые, самодур-отец и дырка в садовой ограде, через которую можно было убегать к деревенским ребятам.
Исследователи попытались сделать географическую привязку поэмы "Кому на Руси жить хорошо" к бывшей Ярославской губернии. Литературовед А. Попов пешком прошел возможные маршруты и обнаружил, что большинство мест, описанных в поэме, действительно существовало и существует. Нашлась деревня Босово, где "Яким Нагой живет…", нашлось Наготино, а в списке населенных мест Российской империи были обнаружены Горелово, Заплатино, Дырино, Несытово…
Оказалось, что в поэме названы фамилии местных помещиков и отражены некоторые действительные события, оставившие след в памяти ярославцев. Понятно, что опора на живые наблюдения в пределах края, где поэт провел тридцать один год из пятидесяти шести, позволила ему дать картину, типичную и для России.
Общеизвестно, что Карабиха, усадьба бывшего ярославского губернатора князя Голицына, была куплена Некрасовым не столько ради того, чтобы иметь место для отдыха и охоты, сколько из потребности хотя бы часть времени находиться в местах, питавших его поэзию. Он приезжал сюда из Петербурга каждое лето, именно здесь, в Карабихе, написаны "Мороз, Красный нос", "Русские женщины", "Дедушка", первая часть "Современников", "Орина, мать солдатская", "Ка-листрат", "Возвращение"…
В сегодняшней Карабихе впечатляют не вещи, собранные в притемненных гардинами комнатах, а, скорее, история того, как удалось их разыскать и вернуть музею. В 1918 году из усадьбы наследников Федора Некрасова растеклись они по деревням, и сколько же времени отнимали у бессменного директора музея Анатолия Федоровича Тарасова поиски какого-нибудь стула, сколько людей бескорыстно и увлеченно помогали ему в таких поисках!
И особенно волнуют в Карабихе некрасовские строки. Известные строки, обретающие здесь новую силу. Строки из писем, в том числе из тех, которые брат Федор, опасаясь обыска, связал и забросил в необитаемое подполье дома — их нашли лишь много лет спустя. Это письма тяжело больного Некрасова. "Я крайне плох. Надежды жить нет. Могу протянуть несколько, а не то так и скоро…" Письма сестры Анны: "…он вскрикивает буквально через каждые двадцать минут, боль продолжается не долго, но за то нет ему покоя ни днем, ни ночью".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
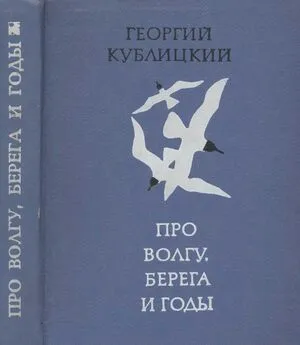









![Георгий Кублицкий - Таймыр, Нью-Йорк, Африка... [Рассказы о странах, людях и путешествиях]](/books/1073752/georgij-kublickij-tajmyr-nyu.webp)