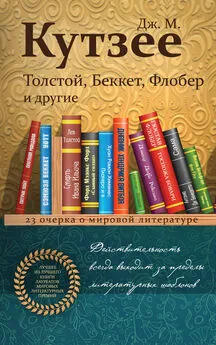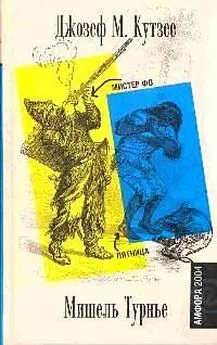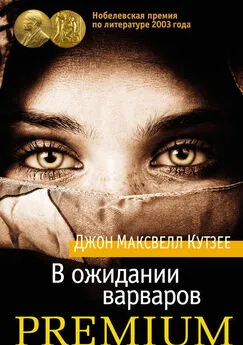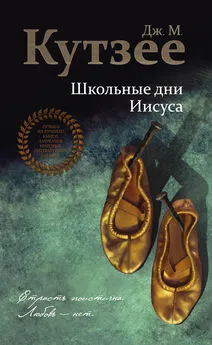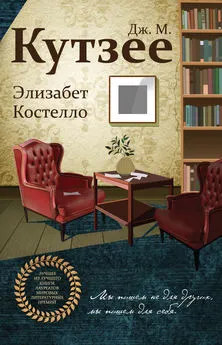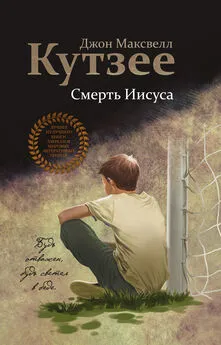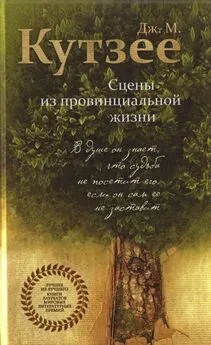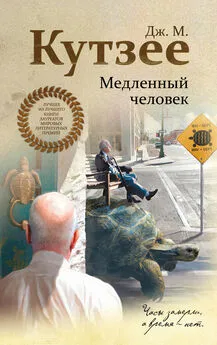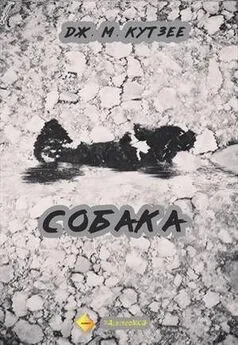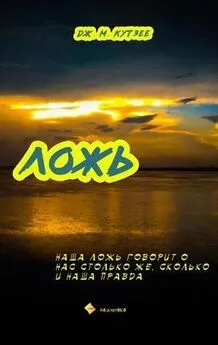Джон Кутзее - Толстой, Беккет, Флобер и другие. 23 очерка о мировой литературе
- Название:Толстой, Беккет, Флобер и другие. 23 очерка о мировой литературе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 1 редакция (16)
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-04-103201-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Кутзее - Толстой, Беккет, Флобер и другие. 23 очерка о мировой литературе краткое содержание
Знаменитый южноафриканский автор, опытный и проницательный критик, Кутзее собрал в одном сборнике свои лучшие очерки. Размышляя о творчестве величайших литературных умов мира, от Дэниэля Дефо и Иоганна Гёте до Ирен Немировски и Филипа Рота, писатель в определенном смысле бросает вызов современному человеку, которому кажется, что он уже нашел ответы на все вопросы.
Толстой, Беккет, Флобер и другие. 23 очерка о мировой литературе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Вы враг всего моего детства… Вы никогда не сможете сделать меня счастливой. Мне нужен мужчина, который не знал бы моей матери, моего дома, моего языка, моей страны, который увез бы меня далеко, куда угодно, хоть к черту, лишь бы подальше отсюда [164] Némirovsky, Le Vin de solitude , с. 301–302.
.

«Вино одиночества» – отчасти роман, отчасти автобиографическая фантазия, но в основном приговор матери, которая назначает дочери роль сексуальной соперницы, тем самым отнимая у ребенка детство и выталкивая ее до срока в мир взрослых страстей. «Иезавель» (1936) – еще более суровый выпад против материнской фигуры. В этом романе нарциссическая светская дама интересного возраста, одержимая своим публичным имиджем, сознательно бросает свою девятнадцатилетнюю дочь истекать кровью после рождения ребенка – лишь бы не стало всеобщим достоянием, что она теперь бабушка (годы спустя отвергнутый внук берется шантажировать ее). Книги, подобные «Иезавель», настроченные впопыхах, предлагают сенсационалистский взгляд на жизнь непутевых людей, помогают понять, почему в литературных кругах ее времени Немировски не воспринимали всерьез.
Мать самой Немировски, по всем откликам, была человеком несимпатичным. Когда в 1945 году ее осиротевшие внучки, шестнадцати- и восьмилетняя, возникли у нее на пороге, она отказала им в приюте («Для нищих детей есть санатории» – таковы были ее слова, как говорят) [165] Elisabeth Gille, Le Mirador (Париж: Stock, 2000), с. 421.
. И все-таки жаль, что с ее точки зрения мы эту историю так и не услышим.
11
Хуан Рамон Хименес
« Платеро и я »
«Платеро и я» обычно считают детской книгой. В книжной торговле, во всяком случае, ее позиционируют именно так. И все же в этой коллекции виньеток, собранных воедино персонажем Платеро, осликом, есть много такого, что впечатлительный ребенок сочтет трудно выносимым, и такого, что лежит за пределами детских интересов. Поэтому, на мой взгляд, лучше считать «Платеро и я» впечатлениями о жизни в маленьком городе – родном городке Хуана Рамона Хименеса, Могере в Андалусии, – восстановленными по памяти взрослым человеком, не утратившим связи с непосредственными детскими переживаниями. Эти впечатления записаны со вкусом и сдержанностью, какие уместны, когда рядом со взрослым читателем располагается детская аудитория.
Помимо неизменно присутствующего взгляда ребенка в «Платеро» есть и более очевидный взгляд – самого Платеро. Ослы, с точки зрения людей, не очень-то красивые животные – не то что (если говорить только о травоядных) газели или даже лошади, – но у них есть одно преимущество: красивые глаза – большие, темные, влажные – проникновенные , как мы их иногда называем, да еще и с длинными ресницами. (Мелкие, красноватые глазки свиней нам кажутся менее привлекательными. Не потому ли нам непросто любить этих умных, доброжелательных, веселых зверей или дружить с ними? А уж если говорить о насекомых, то у них органы зрения настолько чужеродны для нас, что мы с трудом в силах отыскать для них место у себя в сердце.)
В романе Достоевского «Преступление и наказание» есть кошмарная сцена, когда пьяный крестьянин забивает измученную кобылу до смерти. Сначала он лупит ее железным прутом, потом по глазам дубиной, словно желает прежде всего погасить свое отражение в этих глазах. В «Платеро и я» мы читаем о старой слепой кобыле, которую выгоняют ее хозяева, но она все возвращается и возвращается и так их сердит, что они забивают ее палками и камнями. Платеро и его хозяин (этим понятием нас обеспечивает наш язык, но Хименес совершенно точно пользуется другим) натыкаются на мертвую кобылу, лежащую на обочине; ее слепые глаза словно бы наконец прозревают.
Когда ты умрешь, обещает хозяин своему маленькому ослику, я тебя не брошу на обочине, а похороню под большой сосной, которую ты любишь.
Этот совместный взгляд – человека, которого цыганята дразнят помешанным, рассказчика истории «Платеро и я», а не «Я и Платеро», и «его» ослика – устанавливает глубокую связь между ними, почти такую же, какая возникает между матерью и новорожденным, когда они впервые смотрят друг другу в глаза. Вновь и вновь укрепляется эта взаимная связь между человеком и зверем. «Время от времени Платеро поднимает голову и смотрит на меня. Я опускаю книгу и смотрю на Платеро» [166] Juan Ramón Jiménez, Platero and I , пер. на англ. William and Mary Roberts (Нью-Йорк: New American Library, 1956), с. 78. [Здесь и далее пер. А. Гелескула. – Примеч. пер. ]
.
Платеро обретает бытие как личность – как персонаж – со своей жизнью и миром собственного опыта в тот миг, когда человек, которого я называю его хозяином, помешанный, видит, что Платеро видит его и в этом акте видения признает его ровней себе. В этот миг «Платеро» перестает быть просто ярлыком и становится личностью ослика, его истинным именем, его единственной собственностью на белом свете.
Хименес не очеловечивает Платеро. Очеловечить его означало бы предать его ослиную суть. Из-за его ослиной природы опыт Платеро закрыт и непроницаем для людей. Тем не менее эта преграда то и дело преодолевается, и нам показывают мир Платеро; или же, говоря то же самое иначе, когда чувства, которые мы, люди, разделяем со зверями, пропитанные любовью нашего сердца, позволяют нам через посредство Хименеса-поэта проницать этот опыт. «Платеро, в черных глазах которого рдеет закат, смирно останавливается у промоины с багровой, розовой, сиреневой водой, мягко пробует губами цветное зеркало, и кажется, что стекло начинает течь от прикосновения и огромный рот его набухает темной кровью» (с. 37).
«Я нянчусь с ним, как с ребенком… я целую его, дразню, довожу до бешенства. Но он видит меня насквозь и не держит зла. Он так похож на меня и так непохож ни на кого, что ему и вправду, я почти уверен, снятся мои сны» (с. 58). Здесь мы трепещем на грани мига столь желанного в воображаемых жизнях детей, когда великая стена между биологическими видами осыпается, и с теми существами, которые так надолго были от нас далеки, мы воссоединяемся в великом родстве. (Давно ли мы далеки? В иудео-христианском мифе эта разлука длится со времен нашего изгнания из Рая, а конца ее мы желаем как дня, когда лев возляжет с ягненком.)
В этот миг мы видим сумасшедшего человека, поэта, который ведет себя по отношению к Платеро радостно и нежно, как маленькие дети обращаются со щенками и котятами; и Платеро отвечает так же, как молодые животные откликаются на малышей, – с равной радостью и нежностью, словно знают, как знает и ребенок (а серьезный, прозаичный взрослый – нет), что в конечном счете мы все братья и сестры в этом мире; и какими бы неприметными ни были, нам необходим тот, кого можно любить, а иначе мы усыхаем и погибаем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: