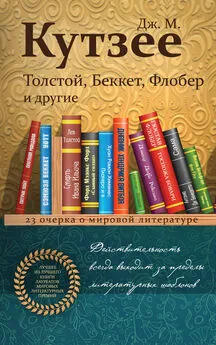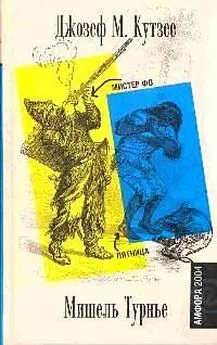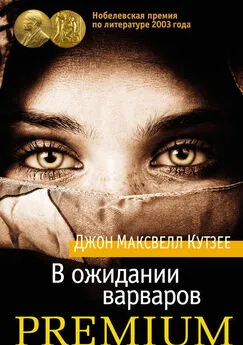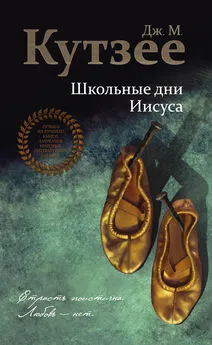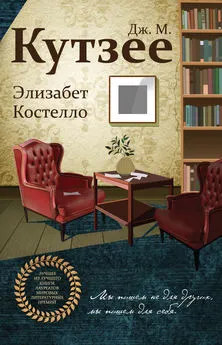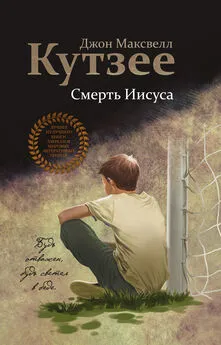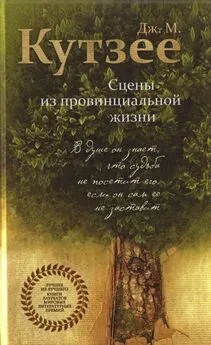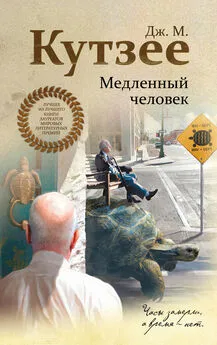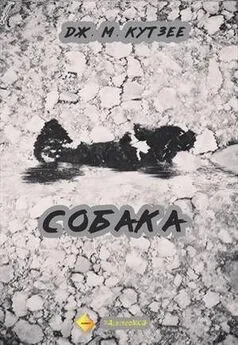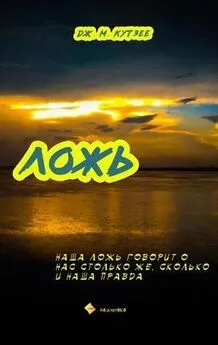Джон Кутзее - Толстой, Беккет, Флобер и другие. 23 очерка о мировой литературе
- Название:Толстой, Беккет, Флобер и другие. 23 очерка о мировой литературе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 1 редакция (16)
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-04-103201-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Кутзее - Толстой, Беккет, Флобер и другие. 23 очерка о мировой литературе краткое содержание
Знаменитый южноафриканский автор, опытный и проницательный критик, Кутзее собрал в одном сборнике свои лучшие очерки. Размышляя о творчестве величайших литературных умов мира, от Дэниэля Дефо и Иоганна Гёте до Ирен Немировски и Филипа Рота, писатель в определенном смысле бросает вызов современному человеку, которому кажется, что он уже нашел ответы на все вопросы.
Толстой, Беккет, Флобер и другие. 23 очерка о мировой литературе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уилфред Бион в дальнейшем оставил заметный след в психоанализе. Во время Второй мировой войны он первым применил психотерапию к солдатам, вернувшимся с фронта (сам он получил психологическую травму в Первой мировой: «Я умер 8 августа 1918 года», – писал он в мемуарах) [205] Цит. в: Mary Jacobus, The Poetics of Psychoanalysis (Оксфорд: Oxford University Press, 2005), с. 180.
. После войны проделал с собой психоаналитическую работу у Мелани Кляйн. Хотя важнейшие сочинения его посвящены эпистемологии отношений между аналитиком и пациентом, для чего он разработал особое алгебраическое счисление, которое назвал «решеткой», Бион продолжал работать с пациентами-психопатами, переживающими иррациональный ужас, психическую смерть.
И литературные критики, и психоаналитики недавно обратили внимание на Беккета и Биона – и на то, какое влияние они могли оказать друг на друга. О том, что между ними на самом деле происходило, записей не осталось. Тем не менее можно предположить, что психоанализ того рода, какому Бион подверг Беккета – его можно было бы назвать протокляйновым анализом, – был важным испытанием в жизни писателя, не столько потому, что он облегчил (или с виду облегчил) мучившие его симптомы, или потому, что помог (или с виду помог) размежеваться с матерью, а потому, что Беккет смог столкнуться – в лице своего собеседника, или дознавателя, или противника – с человеком, интеллектуально равным себе много в чем, с новой моделью мышления и непривычной формой диалога.
Бион, в частности, бросил вызов Беккету – чья приверженность картезианству показывает, как много вкладывал он в представление о личном, неприкосновенном, нефизическом умственном пространстве – заново оценить приоритетность чистого мышления. Решетка Биона, отдающая процессам фантазии должное в процессах мышления, – по сути, аналитическая деконструкция картезианской модели мышления. В психическом паноптикуме Биона и Кляйн Беккет смог приметить намеки на проточеловеческие организмы, на Червей и бестелесные головы в горшках, и населить ими свои многочисленные потусторонние миры.
Бион, похоже, сопереживал нужде, какую испытывают творческие личности беккетовского типа, в регрессе к дорациональной тьме и хаосу как прелюдии к акту творения. Важная теоретическая работа Биона «Внимание и интерпретация» (1970) описывает метод присутствия аналитика для пациента, свободный от всякой авторитарности и прямолинейности, который очень похож (за вычетом шуточек) на тот, какой Беккет в зрелости перенял в отношении фантомных существ, говорящих с его помощью. Бион пишет:

Чтобы достигнуть состояния сознания, необходимого для практики психоанализа, я избегаю любого упражнения памяти; я не делаю записей… Если я обнаруживаю, что у меня нет ключей к тому, что делает пациент, и у меня возникает искушение решить, что ключ лежит в чем-то, что мной забыто, я сопротивляюсь любому импульсу вспоминать…
Та же процедура действует и в отношении желаний: я избегаю чего-то желать и пытаюсь выбросить свои желания из головы…
Создавая в себе «искусственную слепоту» [это Бион цитирует Фрейда] путем исключения воспоминаний и желаний, человек обретает… пронизывающий луч тьмы, который может быть направлен на темные стороны аналитической ситуации [206] Wilfred Bion, Attention and Interpretation (Лондон: Tavistock, 1970), с. 55–66. [Цит. по пер. О. Лежниной. – Примеч. пер .]
.

Пусть 1930-е показались Беккету годами застоя и бесплодности, мы сейчас видим, что глубинные силы в Беккете употребили это время, чтобы заложить художественные и философские – и, возможно, даже эмпирические – основы громадного творческого выплеска, состоявшегося в конце 1940-х – начале 1950-х. Невзирая на праздность, за которую он постоянно себя корил, Беккет невероятно много читал. Однако его самообразование оказалось не исключительно литературным. За 1930-е он превратился в феноменального ценителя живописи, с уклоном в средневековую Германию и голландский XVII век. Письма его полугодового пребывания в Германии – почти сплошь об искусстве: о картинах, которые он посмотрел в музеях и галереях или, в случае художников, которым не давали выставляться публично, – у них в мастерских. Эти письма исключительно интересны – они дают возможность близко взглянуть на мир искусства в Германии на пике нацистских нападок на «дегенеративное искусство» и «арт-большевизм».
Миг прорыва в эстетическом Bildung Беккета наступает во время визита в Германию, когда он осознает, что способен вступать в диалог с картинами на их условиях, без посредничества слов. «Я раньше никогда не был с картиной счастлив, пока это была литература, – пишет он Макгриви в 1936 году, – но теперь этой потребности не стало» (с. 388).
Его проводник здесь – Сезанн, который смог увидеть естественный пейзаж как «неприступно чужеродный», как «непостижимое уму сочетание атомов», и ему хватило мудрости не вторгаться в эту чужеродность. У Сезанна «нет более входа в лес, как нет и взаимодействий с лесом, его измерения таинственны и ему нечего сообщить», – пишет Беккет (с. 223, 222). Неделей позже он развивает свое прозрение: у Сезанна есть чувство собственной несоизмеримости не только с пейзажем, но и – судя по его автопортретам – с «жизнью… происходящей в нем самом» (с. 227). Вот так возникает у Беккета первая подлинная нота его зрелого, постгуманистского периода.
То, что ирландец Сэмюэл Беккет стал одним из мастеров французской изящной словесности, – до некоторой степени дело случая. Ребенком его отправили в двуязычную франко-английскую школу не потому, что его родители желали подготовить его к литературной карьере, а из-за общественного престижа французского языка. Во французском он добился успехов, потому что имел склонность к языкам и, изучая их, делал это прилежно. Так, в его двадцать с чем-то не было никакой острой необходимости в изучении немецкого, если не считать того, что Беккет влюбился в родственницу, жившую в Германии; и все же он совершенствовал свой немецкий, пока не научился не только читать немецкую классику, но и писать по-немецки, пусть сухо и формально. Испанский он тоже знал достаточно, чтобы подготовить к изданию корпус мексиканской поэзии в переводе на английский.
Один из постоянных вопросов о Беккете – почему он переключился с английского на французский как основной свой литературный язык. Проясняющий эту тему документ – письмо, написанное им по-немецки молодому человеку по имени Аксель Каун, с которым они познакомились, пока Беккет ездил по Германии в 1936–1937 годах. Поражает прямота, с какой это письмо излагает литературные устремления Беккета, поскольку адресовано относительно постороннему человеку: столь открыто Беккет не спешит объясняться даже с Макгриви.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: