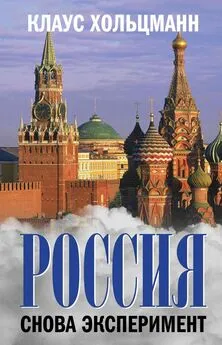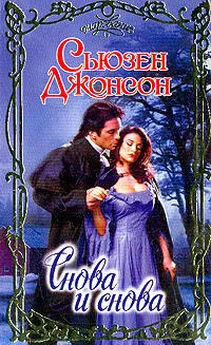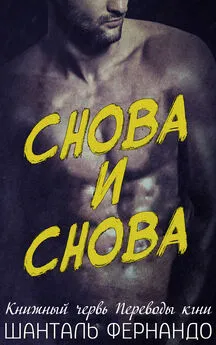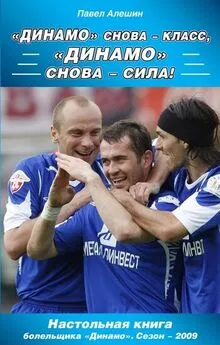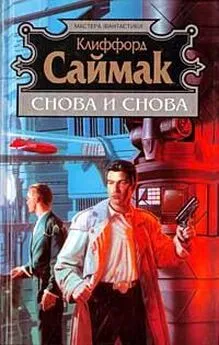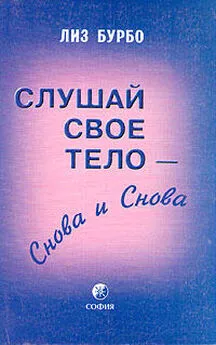Клаус Хольцманн - Россия. Снова эксперимент
- Название:Россия. Снова эксперимент
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906995-93-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клаус Хольцманн - Россия. Снова эксперимент краткое содержание
В книге много ссылок на литературные источники и прессу. Книга написана простым языком и рассчитана на массового читателя.
Россия. Снова эксперимент - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
От застоя к падению
В постсталинскую эпоху началось движение по нисходящей. Расстояние между железнодорожными ветками в нашей схеме, несмотря даже на плавный радиус дальнейшего поворота второй ветки, стало заметно увеличиваться.
Энтузиазм масс стал иссякать, наступила эра неверия в светлые идеалы будущего, уже в народной среде все чаще раздавались голоса: «Наделали делов этот лысый и тот патлатый…». Идеологи партии, не найдя новых стимулов, оставались приверженными старым догмам. Их косность привела к застою и в области идеологии, который можно характеризовать как «эпоху Суслова». Резко упала идейная убежденность среднего звена номенклатуры, для них социализм уже был построен. И как результат — резко упала дисциплина на производстве, массовый характер приняли приписки и другие формы очковтирательства в отчетности. Все эти явления были метко подмечены А. Зиновьевым [28, стр. 397]: «Сталинский стиль руководства был волюнтаристским. Он заключался в том, что высшая власть стремилась насильно заставить население работать так, как хотелось бы ей, власти. Брежневский же стиль руководства, хотел он этого или нет, оказался приспособленческим. Здесь сама высшая власть приспосабливалась к объективно складывающимся обстоятельствам жизни населения. Высшая власть разыгрывала спектакль волюнтаризма, а на самом деле плелась в хвосте неподвластной ей эволюции страны». Что же это была за «эволюция страны»? Она коснулась, прежде всего, всей системы номенклатурного руководства. В условиях утраты идейной убежденности номенклатурная зависимость оставалась единственным инструментом руководства хозяйством страны. Это выражалось в том, что любой способный и деятельный человек, стремящийся руководить, иными словами карьерист-прагматик, должен был связывать свою судьбу с партией. Эта связь превращалась в цепочку, дергая которую, властные структуры могли добиться от такого руководителя беспрекословного выполнения поставленной задачи. Невыполнение ее могло поставить его перед фактом выпадения из обоймы номенклатуры с лишением руководящего поста и гибели всей карьеры. Таким образом, партийный билет в кармане руководителя любого ранга окончательно стал единственным двигателем функционирования советской экономики, так как к тому моменту уже ушли в прошлое энтузиазм масс, идейная убежденность и насилие. Привело это к еще большему укреплению номенклатуры как класса и увеличило ее отрыв от других классов общества.
Вернемся несколько назад к термину «карьерист-прагматик», так как у нас это понятие может вызвать негативные эмоции. На самом деле все здесь обстоит нормально. Если человек чувствует в себе способности руководить на каком-то уровне, то в этом нет ничего зазорного. Одновременно с повышением уровня своего статуса он приносит пользу делу, которым руководит, а также всему обществу. Сегодня без руководства на различных уровнях никакое общество не может существовать. Важно лишь, чтобы человек трезво оценивал свои возможности и не вторгался в сферу руководства выше уровня своей компетентности.
На деле же получалось, что благодаря традиционному в стране кумовству, взяточничеству и другим негативным явлениям в номенклатурную среду широким потоком хлынули не только достойные, но и лица, неспособные к руководящей деятельности, с низким уровнем компетенции. Такое разбухание на фоне всеобщего застоя способствовало постепенному процессу «ожирения» номенклатуры. Процесс этот предвосхитил еще Бердяев [4, стр. 105]: «Диктатура пролетариата, усилив государственную власть, развивает колоссальную бюрократию, охватившую, как паутина, всю страну и все себе подчиняющую. Это новая советская бюрократия, более сильная, чем бюрократия царская, есть новый привилегированный класс, который может жестоко эксплуатировать народные массы… Воля к власти станет самодовлеющей, и за нее будут бороться, как за цель, а не как за средство».
История повторяется. Если в царское время процесс «ожирения» охватил правящий класс — дворянство, то теперь он с еще большей легкостью и в более короткий срок охватил уже другой правящий класс — номенклатуру. И причина двух революций XX века одна и та же — деградация правящего класса. Разумеется, что эти классы были разные. Уже на этой стадии «ожирения» номенклатура вместе с руководством страны проспали важный исторический перекресток на рубеже 60—70-х годов. В это время на Западе фактически завершилась эпоха индустриализации, наступила эра новых технологий и электронной информации. Страна в своей летаргии пропустила этот перекресток и продолжала создавать уже ненужные гигантские производства. Поворот разветвления с мировой цивилизацией стал более крутым, расстояние стало соответственно увеличиваться еще значительнее. Все больше отрываясь от жизни своего народа, от реальной действительности, номенклатура, и прежде всего, ее верхушка — руководство КПСС — утратили чувствительность, что привело, в конце концов, к потере инстинкта самосохранения. Не сумев вовремя перестроиться, партийно-государственный аппарат рухнул под тяжестью своей негибкой политики, а вместе с ним и советское государство.
Попытаемся проследить, как же происходил этот процесс «ожирения» номенклатуры. Для этого представим себе некоего функционера, сидящего в своем кабинете. Власти у него — хоть отбавляй. Но вот закавыка. Где-то пробуксовывает одно мероприятие, где-то — другое. И все это сей «ожиревший» бюрократ должен улаживать, отчитываться перед высшей инстанцией и т. д. И вот мечтает он, чтобы придумали ему такие хозяйственные механизмы, которые сами все отрегулировали бы, а власть осталась бы при нем. Захотелось ему этакую скатерть-самобранку. Подобные настроения овладели значительной прослойкой номенклатурного класса, и она стала стремиться к воплощению своих мечтаний в жизнь. Под их влиянием, прежде всего, и была затеяна «перестройка» в области экономики. Но такие игры, пусть и не увенчавшиеся успехом, лишь высветили в дальнейшем ненужность власти самой номенклатуры.
Разложение номенклатурного класса — это основная причина падения режима. Но была и сопутствующая, в какой-то степени производная от первой. Речь идет о теневой экономике. Она стала зарождаться в недрах брежневского режима. В каких-то небольших дозах эта экономика существует во многих странах, Здесь же речь идет, однако, не об отдельных проявлениях, а о масштабном явлении. В 2006 году в санкт-петербургском издательстве «Вектор» вышла небольшая книжка «Цеховики». Рождение теневой экономики» [48]. Автор А. Нилов так и квалифицирует ее — «Записки подпольного миллионера». Миллионером он стал, используя опыт своего отца. Последний устроился заведующим производством на небольшом ленинградском заводе, производящем линзы. О переходе на подпольный бизнес автор подробно рассказывает на стр.71–80, показывает, как этот бизнес паразитировал на типичной советской бесхозяйственности. Дело в том, что в качестве упаковочного и прокладочного материала линз использовалась замша. Списание части этого материала напрашивалось само собой, применение списанному материалу, естественно, тоже нашлось: шились замшевые пиджаки, которые «расходились на ура». Шились пиджаки в ателье «своего» директора, реализовывались через комиссионный магазин, которым, естественно, тоже руководил «свой». Чтобы увеличить поставку упаковочной замши, увеличили план заводу. И тут «свои» помогли. Завод из отстающих вышел в передовые, легальное и подпольное производство стали процветать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: