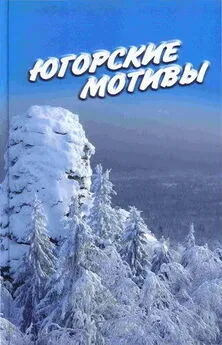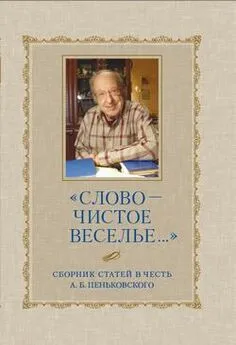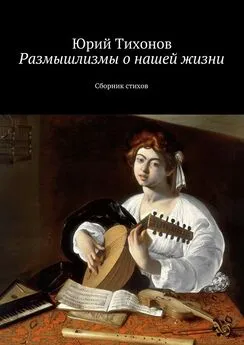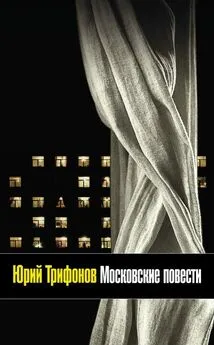Юрий Трифонов - Как слово наше отзовется… [сборник публицистических статей]
- Название:Как слово наше отзовется… [сборник публицистических статей]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Советская Россия»
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Трифонов - Как слово наше отзовется… [сборник публицистических статей] краткое содержание
В сборник вошли статьи Ю. В. Трифонова, интервью. Разумеется, не вся публицистика писателя включена в книгу. Предпочтение отдано малоизвестным и по разным причинам неопубликованным материалам, представляющим актуальность и сегодня.
При подготовке примечаний мы стремились, во-первых, как можно шире представить публицистическое наследие писателя, приводя отрывки из других статей, интервью, дополняющих, на наш взгляд, тот или иной тезис из включенного в книгу материала, а также указывая имеющиеся публикации художественных произведений, статей, характеризующие различные стороны жизни и творчества Ю. В. Трифонова. Во-вторых, цитируя высказывания литературных критиков, приводя биографические данные людей, о которых говорил писатель, — мы стремились показать богатство его интересов к различным периодам истории страны.
Как слово наше отзовется… [сборник публицистических статей] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Самое трудное в искусстве, недоступное многим, — широкий взгляд, умение посмотреть на шедевр глазами автора, а не только своими, затуманенными собственными идеями. Нетерпимость часто возникает не оттого, что в произведении искусства есть враждебные идеи, — это было бы понятно и естественно, — а оттого, что там нет идей, дорогих критику. Обсуждается не то, что есть, а то, чего нет.
В статье «Две магии искусства» Дудинцев одобрительно отзывается о единственной сцене из всей повести Катаева «Святой колодец» — сцене с Парасюком. Это, мол, еще кое-что. Тоже не бог весть, но все же годится — таков тон похвалы Дудинцева. Что ж это за сцена? Очень лихо, ядовито и метко набросанный шарж на некоего дурака на ответственной работе. Почти фельетон, анекдот. Обличение дураков — дело, разумеется, полезное, но совсем не главное дело искусства. Дудинцеву кажется, что хорошо бы таких шаржей побольше и были бы они посильней: не только царапали, но разили наповал. Мне кажется, хорошо, что шаржей в повести мало.
Гораздо серьезней, долговечней, чем скоропалительные шаржи и обличения (которые, повторяю, сами-то по себе полезны), исследования в глубине человека, в его душе, в том «святом колодце», куда попытался заглянуть автор повести. Там, в глубине, тоже могут быть шаржи и обличения, но создавать их тяжелей и увидеть непросто. Герой — старик. Ему грозит неизвестность, небытие, смерть. Погружаясь в колодец прожитой жизни, старик как бы исповедуется: перед самим собой. И он не лжет, ибо это исповедь. Он выглядит иногда неприятно, иногда жалко. Но главное — он человек, он старик, перемоловший громадные годы. Умный, много повидавший, ироничный, желчный, беззащитный старик. Но Дудинцев почему-то не видит в нем человека! Он видит в старике только смешное, раздражающее. Слов нет — у стариков бывает смешное, раздражающее. Но где же ваш гуманизм, Владимир Дмитриевич? Где сострадание? Где умение понять чужую боль, к которому вы так страстно призываете?
Старик, написанный В. Катаевым в повести «Святой колодец», нуждается в сострадании. Во-первых, потому, что он на грани смерти, во-вторых, потому, что он одинок, в-третьих, потому, что недоволен прожитой жизнью и ничего не может исправить. Всего этого не видит Дудинцев, зато придирчиво выписывает разные, как ему кажется, грешки старика: тот недостаточно демократичен (не помнит, как зовут шофера), чересчур эгоистичен, мало любит своих детей, слишком сух и неискренен с женщиной, которую любил сорок лет назад. Реестр грехов велик, но в изложении Дудинцева звучит неубедительно. Почему же? Наверное, потому, что старик рассказывает о себе сам, вернее, видит себя своими собственными, больными, в полубреду очами. Тут возникает феномен достоверности. Мы понимаем, что старик правдив, он разоблачает себя. Но так ли уж страшны разоблачения? Нет, пожалуй. Для долгой жизни…
А вот таких-то правдивых стариков в нашей литературе немного! Забыл имя шофера? Ну, и забыл, и не притворяется, что помнит. В беспамятстве, под наркозом, и не то забудешь. Не волнует любовь сорокалетней давности? Ну, и не волнует, и молодец, что не делает вид, что волнует; зато волнует во всей истории с заокеанской дамой воспоминание о себе самом, юном, нелепом — браво, старик! Это и есть правда. Беда старика оказалась в том, что он не старый рыбак, не лесник, не паромщик, не пенсионер-железнодорожник, не какой-нибудь дед-пчеловод с горькой судьбиной, а — обыкновенный, незатейливый интеллигент да еще с гуманитарным профилем. То ли он профессор какой-то, то ли литератор, то ли, может быть, специалист по древним иконам — это неважно. Важно то, что не принадлежит к простому трудовому люду, и уже это одно делает его несколько подозрительным для людей, которых переполняет жажда сострадать. Нет, этот старик своей порции сострадания не получит. А ведь умирают все, и деды-пчеловоды, и академики, все оглядываются на прошлую жизнь, все тоскуют о несделанном и непоправивом.
Я не собираюсь подробно разбирать повесть В. Катаева «Святой колодец». Толчком для статьи послужила не повесть, а критика на нее, показавшаяся мне несправедливой и однобокой. В повести Катаева есть, может быть, уязвимые места, излишества стиля, внезапные, хотя и редкие, впадения в фельетон, но все равно — книга яркая, местами поразительная, небывалая по писательской искренности. Что касается уровня прозы, то его можно назвать блестящим. О том же писал Дудинцев. Правда, он упирал на то, что мастерство-то мастерством, но оно — формальное, пустое, не наполненное чувствами. Неправда! В повести «Святой колодец» есть чувства, есть боль, но критик не пожелал их увидеть. Для него эта книга — нагромождение сверкающих фраз, формальные выкрутасы, Пикассо в литературе.
Причина нежелания видеть — нетерпимость. А нетерпимость есть дань злобе дня, неумение заглянуть в завтра и в послезавтра.
В свое время маститый и либеральный Стасов яростно нападал на импрессионистов. Называл их «членовредителями и палачами искусства». Роден, по его мнению, создавал лишь «отвратительные кривляния и корчи», Дега — уродливых танцовщиц с безобразными и нелепо нарисованными ногами. «Олимпию» Мане он называл гадкой, ничтожной. Смелый борец против академической рутины, Стасов сам оказался рутинером, когда столкнулся с новыми явлениями в искусстве. Он винил импрессионистов в формализме, в том, что они создают будто бы «искусство для искусства». Но вот прошло сто лет со времени Салона отверженных, и картины импрессионистов завоевали мир. Они любимы миллионами людей во всех странах. В миллионах репродукций они висят на стенах квартир. Какое же это искусство для искусства? Это искусство для людей, для человечества.
Значит, в полотнах, казавшихся Стасову пустыми и бессодержательными, были и содержание, и чувство, и душа, и что-то нужное людям, отчего они их сохранили.
Арена действий нашей литературы расширяется, появляется все больше непохожих друг на друга писателей: по темам, по стилистике. Надо радоваться! Мы любим повторять «Побольше поэтов хороших и разных», но этим «разным» порой приходится туго. Их гнут с обеих сторон. Одни твердят: «Надо больше поучать!», другие: «Надо больше обличать!» Причем те и другие хотят, чтобы поучения и обличения лежали бы, как на блюде.
Долгое время, в сороковые и пятидесятые годы, каноническим в нашей литературе был жанр эпического романа. Все писали толстые книги. Толстой, Фадеев, Шолохов — таковы были недосягаемые ориентиры. Чехов с его краткими шедеврами был как бы представителем жанра второго разряда. Гоголю подражали только в описаниях: «Чуден Днепр при тихой погоде…» Достоевский и вовсе не имел последователей. А где было продолжение тех завоеваний, которых добилась русская проза в двадцатые годы силами Булгакова, Зощенко, Олеши? Все запрудил эпос. Авторы бесперебойно вязали длиннейшие романы-чулки. Канонизация жанра и стиля — последствия этой скучной болезни, наподобие неизлеченного до конца флюса, иной раз дают о себе знать и сейчас, хотя литература стала объемной, многообразной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Юрий Трифонов - Как слово наше отзовется… [сборник публицистических статей]](/books/1090065/yurij-trifonov-kak-slovo-nashe-otzovetsya-sbornik-p.webp)