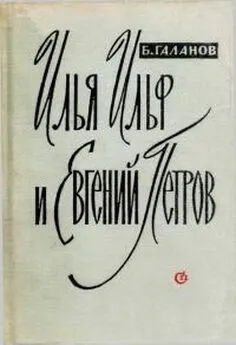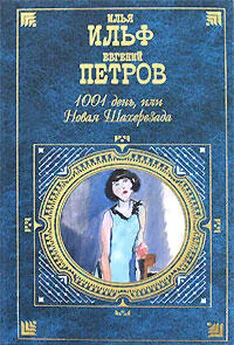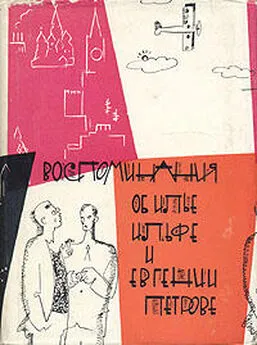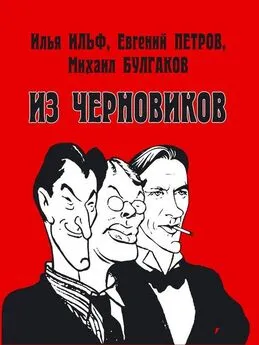Борис Галанов - Илья Ильф и Евгений Петров
- Название:Илья Ильф и Евгений Петров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Советский писатель
- Год:1961
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Галанов - Илья Ильф и Евгений Петров краткое содержание
Используя материалы газет, журналов, воспоминаний современников, Б. Галанов рисует живые портреты Ильфа и Петрова, атмосферу редакций «Гудка», «Правды» и «Чудака», картины жизни и литературного быта 20—30-х годов.
Автор вводит нас в творческую лабораторию Ильфа и Петрова, рассматривает приемы и средства комического, показывает, как постепенно оживал в их произведениях целый мир сатирических персонажей, созданных веселой фантазией писателей.
Илья Ильф и Евгений Петров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для агента уголовного розыска, искореняющего преступность на родине Бени Крика, это была постоянная игра со смертью. Сколько раз в него, так же как в Володю, исподтишка могли целиться опаснейшие головорезы, вроде Сашки Червеня, чей афоризм увековечен в «Зеленом фургоне»: «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним». Не удивительно, что много лет спустя, вспоминая работу в уголовном розыске, Петров честно признавался: «Я считал, что жить мне осталось дня три-четыре, ну, максимум неделю».
Здесь мы простимся с Одессой. В жизни Ильфа и Петрова одесский период заканчивался. Мы снова встретимся с ними уже в Москве в 1923 году. Но Одесса навсегда оставила яркий след в писательской биографии обоих. Да и не только в биографии Ильфа и Петрова. То была пора ученичества, пора формирования литературных вкусов у целой группы молодых одесских писателей. Больше того, в Одессе они пережили такие события, под влиянием которых пробуждалось и непосредственно складывалось их общественное сознание,— революцию, интервенцию, оккупацию, «14 смен властей», голод, блокаду. Правда, в произведениях Ильфа и Петрова эти события не нашли такого прямого отражения, как в повестях и рассказах Катаева, в стихах Багрицкого, в драматургии Славина и в его романе «Наследник». Но мы уже знаем, что вместе с другими писателями-одесситами Ильфа и Петрова жизнь тоже не обидела смолоду впечатлениями.
Самый факт появления в советской литературе большой группы писателей-одесситов, сразу занявших в ней заметное место, невольно внушал соблазнительную мысль, что в их творчестве заложены какие-то общие закономерности. В печати заговорили о новой литературной школе: южнорусской. Виктор Шкловский, перечисляя в тридцатые годы книги Катаева, Багрицкого, Олеши, Бабеля, Инбер, Кирсанова, Ильфа и Петрова, даже предлагал закрепить за этой школой название «юго-западной», по одноименному сборнику стихов Эдуарда Багрицкого. Правда, самим писателям-одесситам, включая наиболее пылких патриотов своего города, любивших изображать Одессу в романтическом ореоле, как некую литературную республику на юге России, такая мысль никогда, кажется, всерьез не приходила в голову. И если я вспоминаю здесь старую статью В. Б. Шкловского, то совсем не для того, чтобы задним числом упрекать его за высказывания, которые он и сам потом резко критиковал в «Литературной газете». В то время сочинялось множество внешне эффектных и заманчивых теорий. Это было модно. Их с легкостью пускали в обращение, но далеко не всегда с такой же легкостью потом изымали обратно. Теории продолжали жить, даже вопреки воле своего автора, и оказывать влияние на умы. С таким фактом исследователю литературы тоже приходится считаться.
Толкуя название сборника шире, чем просто географическое, Шкловский ставил ударение на слове «западная», видя в этом выражение литературных интересов и вкусов целой группы писателей, которые, находясь географически на юге России, «у ворот Леванта» (так в старину называли страны, расположенные на побережье Средиземного моря), испытали на себе сильное влияние Запада. Не будем преуменьшать интерес молодых писателей-одесситов к литературным образцам Запада. Он был достаточно велик. Но не будем и возводить его в абсолют. А согласно противоположной точке зрения ведь выходило, что писатели юга все были «левантинцами», то есть людьми «средиземноморской культуры», и даже, двигаясь к новой тематике, пытались освоить ее через Запад.
Для писателей юга России «западничество» долгое время считалось чуть ли не общим родовым признаком. С этих позиций Ильфа и Петрова, кстати говоря, тоже не раз порицали и не раз хвалили, называя их юмор «итальянским», гротесковую игру — «французской» и т. д. В сущности, вопрос о «западничестве» оказался главным в спорах, разгоревшихся вокруг юго-западной школы,— в спорах, которые сразу же приобрели актуальность и остроту, потому что речь шла о большем — о традициях советской литературы, о родословной целого отряда талантливых писателей. Не вдаваясь сейчас в подробный анализ творчества этих писателей, попробуем ответить, был ли юго-запад в литературе действительно «левантинским» и насколько упреки или похвалы в «левантинстве» отвечали истине. Смолоду каждый из писателей-одесситов уже по-своему начинал служить революции. Одни искореняли бандитизм, другие работали в Окнах сатиры Югроста или активно сотрудничали в одесских газетах, третьи — находились в Первой Конной армии. Не один только Петров мог искренне сказать о себе: «С революцией я пошел сразу же». Именно на этих путях и происходило завоевание новых тем, образов, красок. Эдуард Багрицкий более всех друзей своей молодости считался поэтом, погруженным в условный, книжный «левантинский» мир. Но, вспоминая годы революции, он прямо говорил: «Я был культурником, лектором, газетчиком,— всем, чем угодно,— лишь бы услышать голос времени и по мере сил вогнать его в свои стихи».
Можно спросить: как они поняли революцию, как сумели услышать и «вогнать» голос времени в стихи и в прозу? Опыт Бабеля, опыт Багрицкого напоминает, что в творчестве процессы познания и верного изображения действительности не всегда совершаются легко и просто, что идейная ограниченность восприятия мира нередко ломает, искажает самые благородные намерения художника. У Бабеля были свои трудности, у Багрицкого — свои. Каждому из них предстояло пройти в литературе не легкий путь, и все они проходили его по-своему. Это был сложный и в то же время чрезвычайно плодотворный процесс сближения с жизнью, познания жизни, освобождения из плена подражательности. А под именем «левантинцев» разные писатели не только искусственно подверстывались друг к другу. За ними закреплялось, увековечивалось то, что сами они не собирались увековечивать.
Теперь о понятии «школа». Конечно, литературная школа вовсе не означает собрание учеников, одинаково подстриженных и одетых в одинаковую форму. Говоря об одесских писателях, отнесемся к этому слову со всей осторожностью. Не только потому, что они не оставили шумных литературных манифестов и никогда не делали попыток их оставить. Если даже говорить о школе в узком смысле слова, только как о школе литературного мастерства, то и тогда окажется, что они не были приверженцами, последователями, учениками какого-то определенного мастера. Все они воспитывались на разных образцах, разное любили. Одни в молодости увлекались Мопассаном, другие — Буниным, третьи — романтическими балладами. У Ильфа, по воспоминаниям Славина, интересы простирались от Рабле до Лескова, не говоря уже о том, что он, как и многие его товарищи по «Коллективу поэтов», восторгался Маяковским.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: