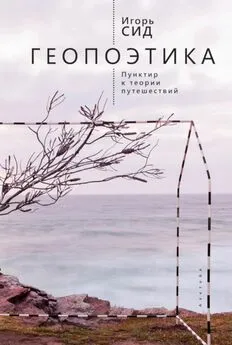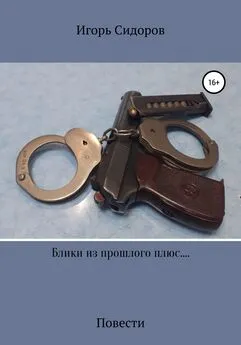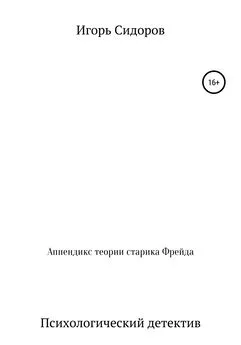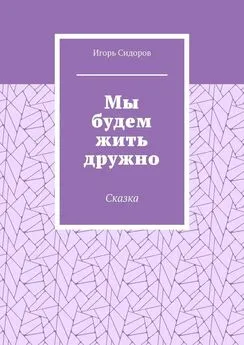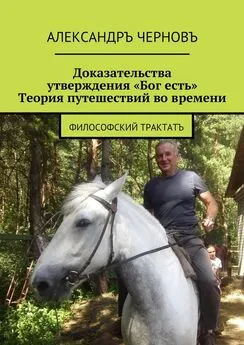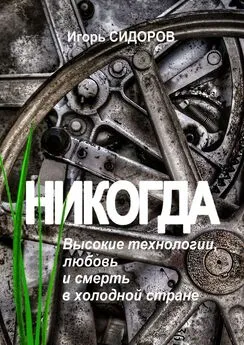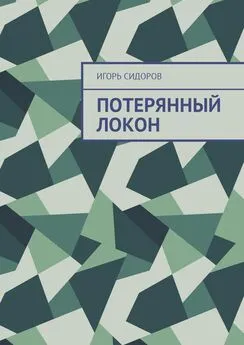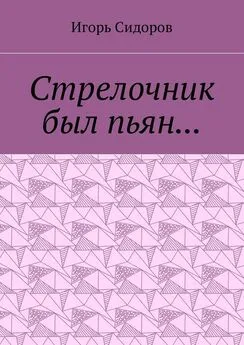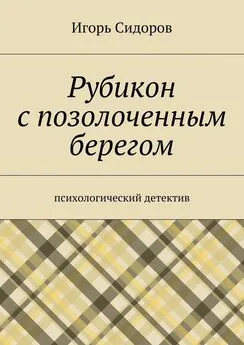Игорь Сид - Геопоэтика. Пунктир к теории путешествий
- Название:Геопоэтика. Пунктир к теории путешествий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-906910-84-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Сид - Геопоэтика. Пунктир к теории путешествий краткое содержание
Поэт, эссеист, исследователь, путешественник Игорь Сид — знаковая фигура в области геопоэтики, инициатор в ней научного и прикладного направлений и модератор диалога между направлениями — литературно-художественным, прикладным (проективным), научным, а также между ними и геополитикой. Работал биологом в тропиках и в Антарктике, гидом по Мадагаскару. Основатель Крымского геопоэтического клуба, куратор Боспорского форума и многих других инновационных культурных проектов. Организатор первых международных конференций по геопоэтике и по антропологии путешествий.
Геопоэтика. Пунктир к теории путешествий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Стало стыдно оставлять Андрея на съедение свирепым ментам (на деле выказывавшим в дальнейшем едва ли не солидарность). Собирать подписи протеста мы поковыляли вдвоём. Вскоре вокруг нас сформировался керченский блок всесоюзной ассоциации «Экология и мир». Со слезами умиления вспоминаю эту разношёрстную горячечную команду, особенно даму с завода, на каждой сходке поднимавшую наш боевой дух новой поэмой против душителей природы и демократии. Между тем горком и обком насмерть, как Иван Земнухов и Ульяна Громова, стояли за «решение Партии и Правительства». Собрания наши в открытую посещали гебешники. Мы держали себя в руках, морду им не били, только издевались вербально. Провели в горсовет и облсовет несколько кандидатов и таки закрыли атомную, совместно с сообщниками из Симферополя и других неблагонадёжных уголков Крыма. Депутатское наше лобби оказалось большей или меньшей степени скромности (вялости?), но один из них развился в гендиректора целого издательского дома и стремительно забыл об общем легендарном прошлом; бог Меркурий ему судья. Но не забыли наши оппоненты!
Дело было так. В конце 90-го года мне срочно понадобилась приличная сумма в долларах для участия в экспедиции с особо экзотическим маршрутом (Египет, Намибия, ЮАР, Мадагаскар, Индонезия и т. д.), финансировавшейся вскладчину. Рассчитывая на новую историческую ситуацию, без малейших колебаний я двинулся в недавний стан врага. И не ошибся.
Вице-мэром был тогда Василий Криворотько, ещё годом раньше державший горестные речи о «разнузданных письмах против руководящей линии». Слуга народа, тоже без малейших колебаний, пообещал мне поддержку рекомендательными письмами и звонками хоть в ЦК. (Василий Иванович врубался насчёт тяги к тропикам — сам скоро умотал в Индию представителем какой-то фирмы.) Прощаясь, уже на пороге он задал мне сакраментальный вопрос, преисполнивший меня незаслуженным уважением к самому себе. « А всё-таки, скажите, какие силы стоят за Вами в городе? » Подумать только, они были уверены, что за нами стоит кто-то или что-то, кроме задетого самолюбия и дурной привычки выдавливать из себя раба! Я еле удержался разочаровать его ответом: «Как какие? Андрюша Широков…».
Помимо звонков и писем к предпринимателям, прежде всего директору корпорации «Воля» (б. Керченский тарный завод) Владимиру Непорожнему и главе Балтийского морского пароходства Виктору Харченко, не последнюю роль сыграли рекомендации мастодонта индустрии путешествий Юрия Сенкевича и ныне покойного директора Института зоологии РАН Ореста Скарлато. Искреннее спасибо всем ещё раз, господа-товарищи! Я ушёл в экспедицию в качестве художника-натуралиста, как бы в творческую командировку от города, и полгода интенсивно шлифовал авторскую технику на образцах островной и африканской фауны и флоры. Итогом стали собранная для музея ЮгНИРО коллекция (впервые в истории Института — ботанические, а не животные экспонаты, чем особенно горжусь), ряд популярных докладов и выставки натуралистической графики в Крыму, Днепропетровске, Киеве и Москве.
« Культурологически наиболее обусловленная стартовая площадка для путешествия духа », — сказал про Керчь автор идеи Боспорского форума Изяслав Гершмановских. Да, Керчь послужила трамплином для меня и для многих ныне таких же, в сущности, беженцев, удачливых беженцев, но она же и посадочная площадка — для самых сильных, кому хватит духа вернуться и восстанавливать из руин целостную жизнь. Ты ждёшь ли меня ещё, веришь ли ещё, Керчь?.. Я не знаю, хватит ли мне когда-нибудь силы духа.
Всё-таки нужно как-нибудь сконцентрироваться и написать галерею керченских литературных пейзажей, разложить ландшафт на главные составляющие или культовые места. Что за пункты входят в парадный список, заранее понятно. Городской Бродвей — улица Ленина, в молодёжном слэнге «Лента», до революции ул. Дворянская (новый мэр, заботясь об имидже города, чистит его до блеска, Ленту превратил в копию Старого Арбата с фонарями и шопами, снёс опостылевшие развалины по берегам улицы, а мне почему-то жалко); «Комариная плешь» на Тузле; сама Тузла; «Борзовка», «площадка» (окраинный пустырь перед дурдомом, недалеко от горпляжа); Митридатская лестница, ряд раскопок, облюбованных горожанами под первомайские пикники: Пантикапей, Мирмекий, Тиритака…
Топонимика Керчи — огромная тема. Ни один город планеты не имел за свою жизнь столько названий. Пантикапей, Боспор, Карх, Чарша, Корчев, Воспоро, Черкио, Воспро, Черзети, Кесария, Керич, Еникале и т. д. Удивляться нечему, Керчь один из старейших городов Земли. В вариантах склонения нынешнего имени — «в КерчИ’», либо «в КЕ’рчи», — я вижу выбор между низким стилем и высоким: смотря с чем ставишь в один ряд это имя — с «печью» или с «речью». Вслед за Маяковским («а там, под вывеской, где селёдки из КЕ’рчи…») предпочитаю второй вариант, хотя в жизни он, натурально, встречается реже. Топонимы в городе в основном советские: старые русские и татарские названия во многих случаях так и не были возвращены. Но всё же гора Митридат выглядит очаровательной антикварной этажеркой: улицы Митридатская, Эспланадная (в произношении горожан, разумеется, «Эксплуанадная»), Первый, Второй Босфорский переулки… На волне гласности в конце восьмидесятых я решил было под шумок добиться переименования улицы Ворошилова, на которой жил, в улицу Максимилиана Волошина: и близко по звучанию, и ассоциации не с подлостью и кровью, а со всеми лучшими человеческими проявлениями… Но согласился с возражениями муниципалитета: улица новая, нехорошее имя у неё с рождения, а вон в Италии до сих пор есть площади Муссолини.
Протекающая через центр речка Мелек-Чесме, — в переводе с татарского «Ангельский Родник», между прочим, — после депортации крымских татар была переименована в речку Приморскую. Образцовый кретинизм типа «площадь Привокзальная», «улица Межмикрорайонная»… Удачно она зашифрована в рассказах Маковецкого: речка Пантикапейка.
На втором Форуме писатель сделал краеведческий доклад «Митридатские улочки». Один из анекдотов, оставшихся в литературных кругах, таков: к концу доклада, вылившегося в суровую критику предыдущего форума, задремавший было в зале поэт Иван Жданов вдруг в тревоге подпрыгнул: «Стоп! А где же кочки-то?» Сидевший рядом поэт Тимур Кибиров строго его поправил: «Не кочки, Ваня! Не кочки, а улочки!»
Но я не случайно во врезке к очерку назвал Керчь городом необыкновенным и магнетическим. Подразумеваю ту мощную ностальгию, которой заражает этот край, когда хоть немного его узнаешь, а потом покинешь. Человеку, объездившему не мир, но почти полмира, от Сахары до Антарктиды и от Джакарты до Санта-Круса-де-Тенерифе, Керчь подарила мне многие из самых сильных воспоминаний в жизни. Читатель сам может если не вспомнить, то вообразить чувства, возникающие при непроизвольной медитации на объекты причерноморской археологии и геологии. Но опишу один волнующий мою память случай.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: