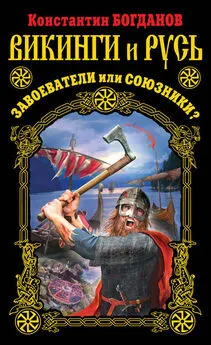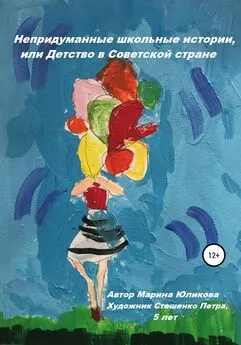Константин Богданов - Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране
- Название:Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0062-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Богданов - Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране краткое содержание
Настоящий сборник статей, составленный отечественными и западными учеными, задумывался как опыт посильного приближения к ответу на эти вопросы. Пользуясь современными интернет- и киноаналогиями, можно сказать, что речь в данном случае идет об аватаре Джамбула — о том образе, который создавался и предъявлялся советской идеологией к его русскоязычной адаптации.
Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
<���…> например, в Замоскворецком литкружке «Искра» был один парень, который регулярно приносил не совсем бездарные, и даже с некоторым несомненным лирическим дарованием стихи. И мы регулярно говорили ему, что эти стихи кулацкие. Он соглашался с тем, что это правильно, но через несколько дней приносил такие же стихи. Чувствуется совершенно ясно, что есть какая-то глубокая почва, связывающая его каким-то образом с кулацкой верхушкой деревни (Либединский; 24).
Сходным образом можно было бы объяснить, между прочим, почему Андрей Белый так и не сумел написать производственный роман, А. Платонов, как ни хотел, — стать пролетарским писателем, почему Зощенко, всецело желая быть нужным, так и не сумел понравиться Сталину… Критики-соцреалисты были правы, когда не верили в возможность многих попутчиков перевоспитаться.
Феноменологический взгляд в пределах своей логики закономерно размывает противопоставление сущности и явления. Соцреалистическая эстетика и «философия» делают то же самое вопреки своему источнику. Они сводят обусловленную жесткими спекулятивно-системными связями гегелевскую антиномию к противопоставлению «главное — второстепенное»:
То, что интересовало пролетлитературу эпохи военного коммунизма, то уже не интересует ее в восстановительный период нэпа, и то, что ее интересовало в восстановительный — перестает интересовать в реконструктивный. Встают новые объекты творчества — усложнившаяся действительность нового десятилетия требует более углубленного подхода, — и горе тем, кто этого не хочет понимать! (Либединский; 22)
В высказывании Либединского регламентируется не то, что должно быть главным , а то, что настоящий писатель обязательно всегда должен знать, что таковым является. Это и означает:
Не останавливаясь на поверхности замечаемого всеми явления,он (писатель. — В.В.)должен проникать в глубинупроисходящих процессов (Камегулов; 19).
Для «главного» есть синонимы с ускользающим референтом — «новое», «социалистическое», «коммунистическое»:
Кто укажет в пролетарской литературе героя, которому можно было бы подражать, образ которого мог бы стать идеалом для молодых поколений?
Такого героя в пролетарской литературе почти нет, потому что пролетарские писатели еще недостаточно научшись видеть в старом новое(Камегулов; 19).
Он должен знать, что каким бы мелким и незначительным ни казалось ему то или иное явление, оно или осколок разрушаемого старого мира, или росток нового (М. Горький; 47).
За главным изначально не закреплена никакая историческая конкретика. В осознании «правды момента» призваны играть свою роль текущая советская пресса и пропаганда. Однако и они не способны застраховать писателя от нарушений уж слишком пластичного «канона»: насколько писатель сведущ в главном и умеет рассматривать жизнь в нужном ракурсе, выясняется только после создания произведения, и только после. Вырабатываемый соцреалистический канон парадоксальным образом работает постфактум. А критика, пресловутая «порка» автора после того, как его произведение вышло, оказывается имманентной частью соцреализма. Так что доводы по образцу раз Шолохова (Леонова и т. д.) критиковали, то какой же он соцреалист? сами по себе не исключают писателя из соцреализма. Напротив, лишь немногие (например, Джамбул) остаются вне критики и без порки, которые всегда полезны. Опасение по поводу молодых литераторов, стоящих вне критики, выражает М. Чумандрин:
Рабочий писатель что-то строчит, читатель идет в библиотеку, берет книгу, читает ее, — а рядом с ним, бок о бок, работает свой товарищ, молодой писатель, бьется в кругу зачастую очень больших трудностей, не проверяет своего творчества на массах, не подвергает его обстрелу всегда беспощадной, всегда жестокой, но и всегда дружественной, участливой критики рабочих читателей(Чумандрин; 99).
Опасение понятно, и его способен разделить читатель «Литературной учебы». Вот мнение тов. Владимирова с завода «Русский Дизель», высказанное им на читательской конференции, посвященной первым двум номерам журнала [224]:
Третье — мне нравится, что на каждой странице, в каждой статье журнал призывает к серьезной учебе. Это очень хорошо. Нужно бичевать начинающего писателя и призывать учиться и учиться в особенности в области литературы,в области письма. Возьмите наши кружки. Наш недостаток в том, что мы плохо учимся. Завтра творческий кружок, а читать нечего. Вот парень садится и пишет 8 строчек. Это никуда не годится. По этим ребятам нужно ударить серьезно. Нужно ударить еще больше по нашим творческим кружкам,чтобы наша продукция давалась тоже проработанной и чтобы все письма и рассказы, чтобы они были тоже достаточно проработаны…
«Канон-постфактум» делает особо незаменимой фигуру критика. А единственное, что может противопоставить «канону» писатель, — критику во время работы, цензуру до печати, фигуру редактора. Писатель никогда не умеет создавать правильные произведения, его талант всегда требует огранки — типизации, «соцреалистической розги». Хотя и это не всегда гарантирует успех: например, упомянутому «парню не без дарования» из замоскворецкого литкружка «Искра» или начинающему писателю тов. Уксусову, о котором речь пойдет чуть ниже, редактор не помог — просто не сумел придать самородку нужную форму [225].
Если отвлечься от общих эстетических категорий, сосредоточившись на поэтике, то ситуацию можно было бы описать так: именно форма (как различие и различенность) главенствует в соцреалистической эстетике. В этом отношении она ничуть не уступает «формализму» [226]. Не быть «формалистом» для соцреалистического эстетического деятеля всегда лишь декларация, поскольку быть вне формы даже теоретически невозможно: «перспектива» овеществляется в поэтике и стиле. В конце концов, Белинский, заявлявший, что «основа искусства, сущность его — это не идеи, выражаемые им, а способ выражения идей через образы» [227], тоже мог бы быть сочтен за «формалиста».
Подлинное словесное искусство всегда очень просто, картинно и почти физически ощутимо. Писать надо так, чтоб читатель видел изображенное словамикак доступное осязанию. Такоемастерство возможнолишь тогда, когда писательсам отлично знаетто, что он изображает (М. Горький; 4).
Подоплека риторики и М. Горького, и журнала неизменна: знание предшествует письму. «Мастерство» выступает синонимом совершённому акту познания и знанию того, как надо. Настоящий художник — ремесленник, а не испытатель или исследователь. Он в профессиональном отношении «мастер». Остальные — подмастерья и ученики. А идеальная литература соцреализма в понимании первого номера «Литературной учебы» и есть самая «чистая» литература: без всякой примеси философской отравы, к которой она тяготела или к которой ее притягивали ранее [228].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: