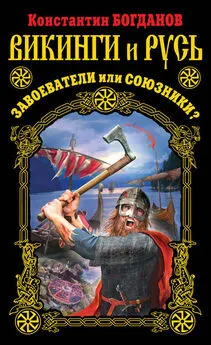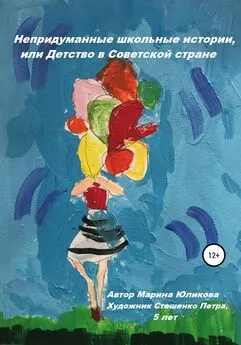Константин Богданов - Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране
- Название:Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0062-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Богданов - Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране краткое содержание
Настоящий сборник статей, составленный отечественными и западными учеными, задумывался как опыт посильного приближения к ответу на эти вопросы. Пользуясь современными интернет- и киноаналогиями, можно сказать, что речь в данном случае идет об аватаре Джамбула — о том образе, который создавался и предъявлялся советской идеологией к его русскоязычной адаптации.
Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Обеспечение переводчика необходимыми материалами зачастую сводилось к грубому пересказу содержания оригинала. Изящная бабочка, в порядке обратной метаморфозы, превратилась в отвратительную гусеницу [526].
Чтобы повысить качество «интуитивного перевода», Тарловский предлагает целый набор вспомогательных средств, в совокупности названных «портфелем», который в идеале должен сопутствовать каждому переводу. Портфель включает в себя, в частности, описание языка оригинала, или «языковой паспорт» (алфавит с русской фонетической транскрипцией, морфологические и этимологические сведения, система ударения, а для стихотворцев — данные о версификации и звукописи), словари в оба направления, оригинал (и его текст в транскрипции с указанием ударения, рифмы, строфики, аллитерации и т. п.), характеристику автора и данного произведения, два подстрочных перевода (один «очень точный хотя и не вполне вразумительный», второй — «вполне вразумительный, хотя и не столь точный»), комментарий к подстрочникам (реалии, фразеология, игра слов, имена и названия и т. п.) [527].
С особым пафосом Тарловский ратует за право доступа «интуитивного» переводчика к оригиналу, отмечая, что такому переводчику часто приходится работать с одними подстрочниками. При этом Тарловский ссылается, в частности, на значение оригинала как «мощного, хотя и таинственного, генератора эмоции» [528]. В этой связи уделяется немало внимания случаям отсутствия оригинала. Кроме исторического обзора («Песни Оссиана», Мериме, привычка Пушкина скрываться за ссылками на несуществующие оригиналы «по тем или иным, но всегда благородным мотивам») дается целая типология «литературных мистификаций». И хотя Тарловский спешно добавляет, что «[в] нашей советской действительности, где моральное авторское право является одним из почтеннейших прав гражданина, предпосылки для литературных мистификаций безвозвратно исчезли» [529], кое-какие из его примеров имеют явное отношение к современным ему практикам. Так, отмечается отсутствие подлинников «ряда песен даже такого великого ашуга, как Сулейман Стальский» [530]. В другом примере заключается намек на индустрию Джамбула: «В практике переводов с казахского известен случай, когда переводивший, переоценив свое интуитивное дарование, заставил „тулпара (коня) скакать в нужные моменты“» [531].
Если, таким образом, в существовании некоторой советской переводческой машины и в «целенаправленной возне вокруг Джамбула» [532]и других можно не сомневаться, как тогда быть с бахтинской перспективой? Ведь можно было бы утверждать, что если перевод являет собой полную фикцию, то на практике мы имеем дело с «одноголосыми» (по Бахтину) текстами. Такая трактовка представляется неверной. Во-первых, постулировать текст как перевод означает создать иллюзию его «двуголосости», что необходимо при конструировании легитимного речевого субъекта или позиции, из которой высказывание имело бы силу. Во-вторых, речь во всех этих случаях идет о текстах, которые ориентируются на оригинал, пусть даже фиктивный. Оригинал, «второй голос», здесь представляет собой набор конвенций, горизонт ожидания, общее представление о характеристиках чужой культуры.
Хотя действительный характер такой манипуляции пока недостаточно изучен, ясно, что понятие culture planning «сверху» в применении к такому переводу нуждается в модификации. Речь, по всей видимости, не обязательно идет о процессах, прямая инициатива которых исходила бы из каких-либо государственных органов. «Сверху» устанавливались рамки и создавался спрос на переводные тексты определенного типа. Так, например, функционировали декады литератур и искусств национальных республик, которые проводились в Москве начиная с весны 1936 года и продолжались вплоть до войны [533]. В системе литературы образовалась ниша, открытая для разного рода предпринимательских инициатив — «снизу». Но все они, в принципе, должны были выполнять тот же идеологический заказ «сверху». Диапазон таких инициатив был весьма широк, и из соответствующих им практик перевода можно было бы выстроить целую типологию. Здесь кроме случаев с фиктивными оригиналами фигурируют и случаи, когда подстрочник превращается в оригинальный жанр и возникает потребность в термине «вторичный оригинал». При этом автором «оригинальных подстрочников» мог выступать (или скорее скрываться) как переводимый автор [534], так и переводчик [535]. Переводческий процесс в таких условиях мог принять форму спирали: по «оригинальным подстрочникам» производился перевод, с которого производился «вторичный оригинал» на национальном языке, который, в свою очередь, мог переводиться заново, и т. д. Экономический стимул таких операций был достаточно силен [536]. И, естественно, при таком расширении области анонимного сотворчества распределение «ответственности» за слово становится еще менее четким.
Традиционный перевод с оригинала в принципе сопряжен с теми же прагматическими проблемами и возможностями, о которых здесь шла речь. В заключение рассмотрим случай culture planning «снизу», когда личная инициатива переводчика преследует его собственные идеологические и художественные цели. Начиная с 1930-х годов Борис Пастернак много переводил как из европейской литературы, так и из литератур народов СССР [537]. Весной 1939 года он начал перевод «Гамлета» по заказу Мейерхольда, который после закрытия собственного театра в Москве собирался ставить пьесу в Ленинграде. Пастернак продолжал работу и после ареста Мейерхольда летом того же года. (Режиссер был расстрелян в феврале 1940 года.) Осенью 1939 года перевод был принят для постановки во МХАТе и впоследствии опубликован в первоначальной версии в журнале «Молодая гвардия» (1940. № 5–6); книжное издание «Гамлета» (Гослитиздат, 1941) модифицировано Пастернаком согласно требованиям МХАТа. О том, что Пастернак сам предпочитал изначальный вариант, свидетельствует задуманное, но не опубликованное предисловие к книге, в котором автор отсылает к первой версии «[ч]итателей со вкусом и пониманием, умеющих отличать истину от видимости» [538].
В предисловии же к журнальному варианту Пастернак декларирует свои собственные принципы перевода — свое предпочтение «вольных» переводов «буквализму» [539]. Как было сказано выше, такова была и официальная позиция того времени: догмы социалистического реализма осуждали «элитистский» буквализм в переводе и видели в нем манифестацию «литературного формализма», а позднее — даже «космополитизма» [540]. Кроме традиционной ксенофобии причину этой установки можно, пожалуй, видеть в том, что «вольный» перевод оправдывал цензуру и облегчал «улучшения» оригинальных текстов (неприемлемые для цензуры отрывки легко было исключить). Таким образом, переводческие принципы Пастернака, с одной стороны, можно рассматривать как адаптацию к господствующим нормам, но с другой — они же предоставляли ему уникальное пространство художественной свободы [541]. В случае с «Гамлетом» оно было использовано для определенной «переакцентировки» оригинала, которой я посвятила отдельный анализ [542], где показано, в частности, что переводу Пастернака свойственна специфическая смысловая аберрация: там, где в оригинале употребляются слова и образы из семантического поля юриспруденции (а это нередкий прием у Шекспира), Пастернак конкретизирует и модернизирует данные выражения, выбирая слова, которые отсылают к современным переводу следственным практикам, правовой драматургии и одиозным жанрам, таким как публичный донос. В сфере лексики, относящейся к морали и этике, стилистически нейтральные слова оригинала переводятся Пастернаком с помощью юридической терминологии. На текст накладывается отпечаток оперативного языка государственной машины совсем другого времени. К тому же в этом «мейерхольдовском» переводе подчеркивается роль Гамлета как режиссера «представления во дворце» («Мышеловки»), Можно сказать, что Пастернак-переводчик подражает Гамлету-постановщику: тот показывает пьесу в пьесе для того, чтобы разоблачить «гниль» Дании, Пастернак показывает пьесу в пьесе — то есть своего «Гамлета» в «Гамлете» Шекспира — для того, чтобы высказаться о своем времени [543].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: