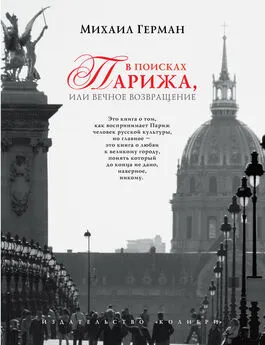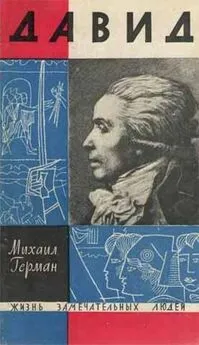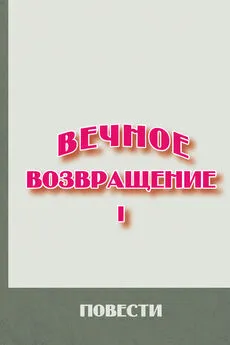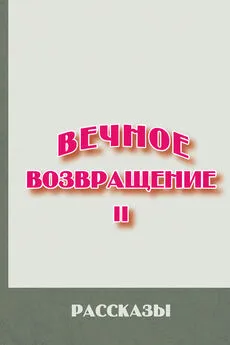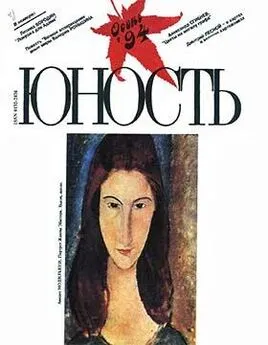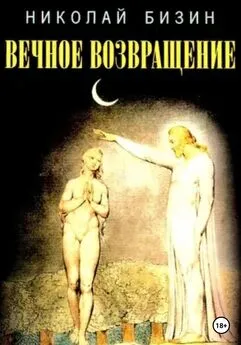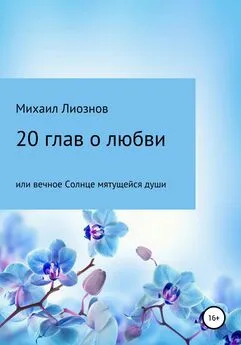Михаил Герман - В поисках Парижа, или Вечное возвращение
- Название:В поисках Парижа, или Вечное возвращение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аттикус»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-10035-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Герман - В поисках Парижа, или Вечное возвращение краткое содержание
В поисках Парижа, или Вечное возвращение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Меня же поток непонятных названий, неведомых дат очаровал – что называется, «пленил мое воображение». Кружили голову незнакомые «заграничные» слова, обыденность романтических понятий, эта непонятная мне до сих пор магия прозы Дюма, лишенной вовсе изобразительности, настоящей тонкости, да и вообще многого из того, чем славится французская словесность. Признаюсь: «оригиналом» Дюма, как и многих французских книг, для меня остались те русские переводы , которые я прочитал первыми . Любимых французских авторов я читал потом в оригинале, подчас приходя в ужас от несовершенства и приблизительности переводов, а часто и искренне этими переводами восхищаясь, но мушкетеры в моем сознании все еще говорят по-русски!

Потом была «Хроника времен Карла IX» Мериме: поединки «заправских дуэлянтов» на Пре-о-Клэр, церковь Сен-Жермен-л’Осеруа [1], где Бернар де Мержи встретился с дуэньей госпожи де Тюржи и с колокольни которой в Варфоломеевскую ночь дан был сигнал к началу избиения гугенотов. И у Мериме нет зримого Парижа, но есть колдовство божественного стиля, сухой блеск холодного пера, которое с точностью гравировального резца обозначало действие, атмосферу и характеры, драму времени и отстраненность автора. Тогда я не думал, почему столь строгая проза так завораживала, но с тех пор навсегда влюбился в книги Проспера Мериме.
С детства восхищался драмами Гюго, томик его пьес случайно попался мне в эвакуации. Я читал его с трудом и восхищением, покорил меня, естественно, «Рюи Блаз»: «Пускай на мне ливрея, у вас же, монсеньор, у вас душа лакея!..» Страшно нравились подробные ремарки: «роскошный плащ из светло-зеленого бархата, подбитый черным шелком», «зал Данаи в мадридском королевском дворце», имена и названия – «граф де Кампореаль», «орден Калатравы». Все эти подробности меня возбуждали донельзя, я пытался делать какие-то декорации, клеил из бумаги стульчик «в полуфламандском стиле», как было написано у Гюго, не имея представления о том, что это такое. И хотя в том же томике был знаменитый сюжет из французской истории – «Король забавляется», особого различия между странами я тогда не делал. Все было заграницей, значит в какой-то мере и Францией.
И все же только у Дюма было странное и восхитительное соединение эпоса и стремительно развивающейся интриги, эффектных остроумных диалогов, фраз острых и разящих, как выпад шпаги, таинственности и бог еще знает чего, что составляет шипучий и искристый нектар его прозы.
И конечно, безупречная рыцарственность, особенно Атос с его божественным благородством. Четкость характеров как в commedia dell’arte, ведь Арамис, Портос или Гримо – фигуры, сравнимые с Тартюфом или Полонием. И эти виды Парижа, нарисованные Морисом Лелуаром, дома, чьи верхние этажи, перекрещенные балками, нависали над узкими улицами, острые крыши, арки, башни, приподнятые шпагами плащи, ботфорты, перья на шляпах, кареты в клубах пыли… И сладостный ужас казни Миледи, и это последнее: «Для Атоса это слишком много, для графа де Ла Фер – слишком мало». В этой книге есть, в сущности, все – от рождения до смерти, от самопожертвования до жесточайшего насилия, от беспечности до горечи философских откровений, есть Любовь, Добро и Зло, порой равно задрапированные в переливающиеся, волшебные плащи дерзости и благородства.
Сколько пролито чернил, дабы уличить Дюма в несамостоятельности, исторических ошибках, безвкусице, нарциссизме! «Романы Дюма писал Огюст Маке, школьный учитель истории!» Все знали, что у Дюма было много помощников, в том числе и молодой тогда Жерар де Нерваль, но все это вздор и суета! Циклопическая сила единого всепоглощающего таланта видна везде, даже там, где несомненны и небрежности, и «швы», и прямые противоречия. Впрочем, Дюма отмел все претензии, заявив, что у него столько же помощников, сколько маршалов у Наполеона!
Иное дело, что даже восторженный поклонник Дюма, увидев его «замок Монте-Кристо», сразу же вспомнит не блеск его пера, а всю трескучесть и претенциозность его самых слабых книг и неудачных пассажей. Это карликовое фараонство, смешные потуги на монументальность, эклектика без дерзости – как это печально. Недаром замок так понравился Бальзаку, у которого, как и у Дюма, литературная царственность соединялась с плебейским снобизмом вкуса. Но довольно об этом, какое нам дело до слабостей гиганта, чьи книги учили рыцарственности десятки поколений.
Сейчас, мысленно перелистывая страницы книги, которую помню почти наизусть, прихожу в растерянность: ни одного описания Парижа! Дело было, видимо, совершенно в другом. Париж был реальной (пусть невидимой, но существовавшей!) средой обитания пленивших меня героев. Герои были выдуманными, Париж – настоящим, он существовал где-то в другой вселенной, но существовал!
Хотя поверить, что есть и в самом деле улица Феру, и «Люксембург» (что это такое?), и Лувр, и Пале-Руаяль, и много другого, было невозможно. А уж подумать, что эту самую улицу Феру я «тридцать лет спустя» – да простится мне невольный каламбур – найду настоящую в настоящем Париже!..
Тогда я ведь не видел ни одной фотографии Парижа, ни одного его точного изображения. Мне представлялось что-то в виде острых башен, аркад, узких улиц, на которых верхние этажи домов почти соприкасались, нависая уступами, трактирных вывесок, покосившихся фонарей, плюща на каменных стенах. Скорее всего – все те же рисунки Лелуара, какие-то случайные изображения старинных городов вообще.
Заграница – она была насквозь сказочной, ее, собственно, и не существовало вовсе, только в книжках она становилась осязаемой и реальной. Книжный Париж не побежден в моем сознании и нынче, да и зачем побеждать его! Он был, не смею сказать – лучше реального, но насколько пронзительнее, сказочнее, как ни странно – безусловнее. Я ни с кем не делил его, лишь мне, моему раннему детству принадлежали почти выдуманные его дома, краски и запахи. И потому, когда я впервые читал ростановского «Сирано де Бержерака», одна из ремарок первого акта показалась мне подробной картиной, панорамой, монументальным городским пейзажем. А было там всего несколько слов: «Виден уголок старого картинного Парижа в лунном свете».
«Три мушкетера» я прочел только один раз, больше в эвакуации роман никогда не попадал мне в руки, если не считать совершенно курьезной дореволюционной книжонки с «вольным пересказом» романа на сотне страниц: там сюжет был сильно «эротизирован», упрощен, к тому же герои плыли из Франции в Англию на пароходе (sic!) – и такое случалось.
Но как я запомнил ту первую книгу в черном переплете с золотыми гербом и шпагой!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: