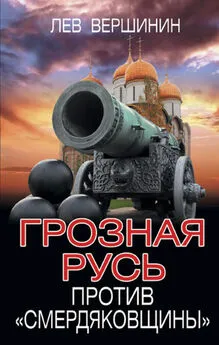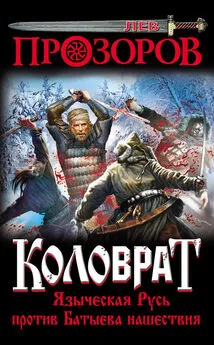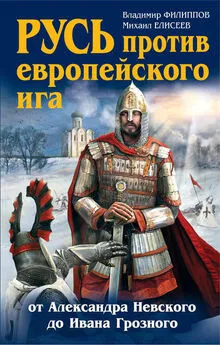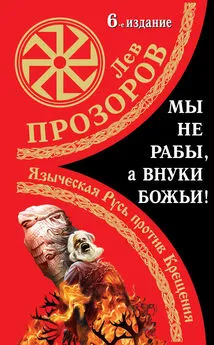Лев Вершинин - Грозная Русь против «смердяковщины»
- Название:Грозная Русь против «смердяковщины»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Яуза»
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-84888-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Вершинин - Грозная Русь против «смердяковщины» краткое содержание
С той Ливонской войны ведут отсчет и оголтелая европейская русофобия, и подлая «СМЕРДЯКОВЩИНА» – пораженчество и предательство лакейской прозападной «элиты», – и самые грязные мифы о «русском рабстве», «кровавой тирании» и «массовых репрессиях» Ивана Грозного, якобы «убившего своего сына» (помните скандальную картину Репина?).
Но знаете ли вы, что при эксгумации, проведенной уже в XX веке, на черепе царевича не обнаружено никаких повреждений, а «черная легенда» о «деспоте-сыноубийце» вымышлена европейскими клеветниками и растиражирована «западниками» вроде Карамзина?
Эта книга опровергает самые опасные и злокачественные мифы «национал-предателей» о России, выводя на чистую воду всех смердяковых – и прежних, и нынешних, – всегда желавших поражения Отечеству и капитуляции перед европейскими захватчиками.
Грозная Русь против «смердяковщины» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прежде всего – перечислять не стану, это все известно, и карты есть – царь взял под себя территории, в той или иной степени важные в связи с идущей войной и торговлей, как внешней, так и внутренней. Включая основные водные пути. Вошли в опричнину и районы добычи всех видов стратегически важного сырья, включая солеварни, и крупные рыбные промыслы, и конские пастбища, и южные форпосты, где планировалось создать новую засечную черту против Крыма. Равным образом была разделена и Москва, с тщательно продуманным прицелом на то, чтобы «опричные» участки разделяли подворья княжат – на всякий случай. Короче говоря, царь многое брал в свою пользу, но в то же время многократно увеличивал долю личной ответственности.
Итоги? А давайте разберем, благо все на поверхности.
Начнем с того, что по всем меркам хорошо:
а) были окончательно сломлены (не уничтожены, но все-таки) «отчины и дедины», то есть государства в государстве, со своими судами, налогами и частными армиями, а следовательно, установлен единый на всех закон;
б) резко рванула вперед система «службы с земли», то есть социальных лифтов, открывающих путь к карьере, как военной, так и гражданской, всем худородным, кто так или иначе проявлял себя.
Это, по сути, была революция сверху, и этого не отменить. Как ни относись к писаниям Штадена, но даже этот фантазер отмечает, что Иван « хотел искоренить неправду правителей и приказных (…) хотел устроить так, чтобы новые правители, которых он посадит, судили бы по Судебникам, без подарков, дач и подношений» , и что важно, при этом не боялся просить поддержки у хижин. Что, кстати, царь вполне сознавал. По крайней мере, судя по строкам из переписки с Грязным: «Ино по грехом моим учинилось, что наши Князи и бояре учали изменяти, и мы вас, страдников, приближали, хотячи от вас службы и правды ».
В итоге по всему, что нам известно, посады были новыми порядками вполне удовлетворены и даже довольны. Зачисления в опричнину, как особой льготы, просили иностранные купцы. И царь шел навстречу низам. Тем же Строгановым, еще простым купчишкам, были дарованы самые обширные привилегии, какие никогда не вотировала бы Дума, – и к чему это привело, общеизвестно. Да, в конце концов, и бурное развитие заморской торговли, заставившее психовать самого Сигизмунда («Московский Государь… ежедневно усиливается, ему доставляются не только товары, но и оружие, доселе ему неизвестное, и мастера, и художники: он укрепляется для побеждения всех прочих Государей»), тоже имело место именно в «опричи».
А теперь о плохом.
Сугубо теоретически, чтобы потом, говоря о конкретике, не отвлекаться.
Если вы обратили внимание, выше прозвучало слово «революция». А любая революция на первом, по крайней мере, своем этапе выглядит неаппетитно. «Общая польза», изложенная опять же чуть выше, не подразумевает коврижек ни для отдельной личности, попавшей под каток, ни для изживших себя, но пытающихся цепляться за старые привилегии социальных слоев. Безусловно, говоря о необходимости «перебрать людишек», Иван подразумевал именно «перебрать». То есть провести проверку уже «набранных», проверить кадры, возможно, переставить их в рамках структуры – а вовсе не казнить всех подряд. Как, кстати, и Александр Григорьевич, заявив однажды, что аппарат нужно «перетрахивать», подразумевал именно отсев, очистку, а вовсе не то, что подумала многоопытная минская оппозиция. И тем не менее, если кого-то смущает «слезинка ребенка», извините, ничем не могу помочь. Законы истории неотменимы, как законы физики, – и горит Вандея (только потому, что крестьяне не понимают, почему нельзя кланяться кюре), и бредут по дорогам Англии десятки тысяч добрых йоменов, в одночасье, вопреки всякому закону превратившихся в бомжей.
А не бывает иначе. И лютый беспредел, творимый опричниками (к слову, далеко не всегда по царскому приказу), – это все те же прекрасно известные нам перегибы на местах, обычное и печальное следствие головокружения от успехов, помноженных на сословную неприязнь «худородных» к княжатам. Тем паче что – повторю еще раз – бояре боярами, а рвали по живому и налаженную жизнь удельных дворян, и боевых холопов, а это были люди вооруженные, опасные и вполне способные мстить. Так что, уж извините, на упреждение. Как везде. И абсолютная власть на месте обезумевшего от вседозволенности опричника (они не все такие были, но нередко) мало чем отличалась от такой же абсолютной власти кромвелевского капитан-генерала, петровского сержанта, делегата Конвента или сулланского ветерана, назначенного претворять новации в жизнь.
Так что, кому не нравится, пусть выпьет море.
И вот еще что. Об этом почему-то очень редко говорят, по крайней мере публицисты, но Иван, «перебирая людишек», не крушил все и вся. Проведя необходимые чистки в тех или иных регионах, он регулярно «отдавал гнев», возвращая – как, например, весной 1566 года – высланных в «земщину» дворян, бояр и даже аристократов-княжат домой, в «отчины и дедины», расположенные в опричнине, и возвращенных никто не имел права обидеть под страхом смерти. Более того, постепенно менялся и реестр уделов, забранных «под прямое управление». Какие-то «опричные» земли возвращались в «земщину», какие-то «земские» переходили под управление Государева Двора. А это, согласитесь, никак не соответствует ярлычку о «тупой машине террора ради террора». Это, напротив, подтверждает уже прозвучавшую мысль о чрезвычайном положении, жестоком настолько, насколько это соответствовало нормам и духу времени.
А что касается террора, так что ж.
Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда у нее есть силы защищаться. Помните, кто сказал? Ага. И контрреволюция тоже. А у «старомосковских» (в смысле, тех, компромисс с которыми был невозможен) силы были. И войско, и связи, и контакты с зарубежьем, и опыт, и деньги, и с какого-то момента понимание, что не отсидишься, а значит, драться надо насмерть. Как отмечает тот же Штаден, «земские Господа ( die Semsken Herren ) вздумали этому противиться и препятствовать и желали, чтобы двор сгорел, чтобы опричнине пришел конец, и великий Князь управлял бы по их воле и пожеланию». И вот тогда-то царю, пути назад не имевшему, пришло наконец время по-настоящему «грознеть»…
Глава VIII. Большой террор
Всем, кто алчет крови, твердо сообщаю: ага.
Сам жду не дождусь.
А то ведь как-то все не так: разговор уже об опричнине, страшной и ужасной, а красненького все еще не реки, но разве что ручейки, по сравнению с тогдашней Европой вообще, почитай, ничего, аж стыдно. Ну, как есть, так есть. Главное, что дотерпели. Теперь будет и красненькое…
…Девять лет войны – это долго. И трудно. Деньги летели в трубу (к слову, именно необходимостью получить чрезвычайные источники доходов была не в последнюю очередь порождена опричнина). Правда, наконец-то уладились проблемы со шведами: после долгих переговоров 16 февраля 1567 года был подписан договор о мире и даже дружбе. За Швецией осталось то, что она и так уже имела (Ревель, Вейсенштейн и кое-какая мелочь), а взамен Стокгольм признал право Москвы на остальную Ливонию. А также обязался не заключать сепаратного мира с Польшей и Литвой, с которыми уже тоже к тому времени воевал. Неплохо налаживались у Ивана и контакты с Англией, были все основания надеяться на то, что «ее величество будет другом его друзей и врагом его врагов и также наоборот». А поскольку примкнуть к такому союзу мечтал и Эрик XIV Ваза, перспектива протестанстко-православной коалиции против общего католического врага не казалась слишком уж фантастичной. Хотя, в принципе, Ивана вполне устраивал и мир на тех же условиях, что и со Швецией (кто что взял, то тому и принадлежит). Но это не устраивало Сигизмунда. Ему было очень нелегко: экономика Литвы трещала по швам, Польша в «литовскую войну» лезть не очень стремилась, но тем не менее по двум пунктам он согласиться не мог. Даже если бы хотел. Отказ от Полоцка (первое требование Москвы) сломало бы баланс сил в отношениях с Польшей, ослабив Литву, где он был абсолютным монархом, а выдать на расправу Курбского (второе требование) мешали магнаты литовские, одним из которых перебежчик стал. Таким образом, война затихла сама собой, но не завершилась.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: