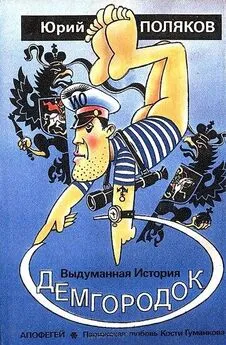Юрий Поляков - Государственная недостаточность. Сборник интервью
- Название:Государственная недостаточность. Сборник интервью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-087146-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Поляков - Государственная недостаточность. Сборник интервью краткое содержание
В настоящий том вошли интервью с 1986 по 2005 г.
Государственная недостаточность. Сборник интервью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вот только многие ли из них задаются такими вопросами?
– Да, задаются. Конечно, среди них есть полные «отморозки», у которых задача здесь «нарубить», а жить там. Но это социальная клиника. И заниматься такими людьми должны спецслужбы. В то же время среди них много нормальных людей, выросших при советской власти. Иные из этих людей имеют совершенно нормальное неатрофированное патриотическое чувство. Их государство поставило в эти условия! Осуществляя реформы, власть выстроила такую парадигму, что стать богатым, не нанеся ущерб стране и обществу, было просто невозможно! Это – сложная проблема. И об этом у меня написан ряд вещей, которые, кстати, постоянно переиздаются.
– Вам интересно разбираться в этой проблеме?
– Я не ставлю вопрос так, что вот, мол, я специально в этом разбираюсь. Я пишу жизнь своего героя – моего современника. Но поскольку я нормальный писатель, воспитанный на отечественной реалистической традиции, то, естественно, одновременно с его историей я рассказываю историю страны. А поскольку так голова затесана, что сатирическое мироощущение у меня сильное, то и сатира получается достаточно острая. И вообще, я считаю, что главная задача писателя состоит в том, чтобы попытаться понять и запечатлеть в художественных формах духовную и социальную суть своего времени. Ведь об эпохе мы судим по литературным произведениям. Плюс кино, но кино – искусство, производное от литературы. Сценарий-то пишет писатель. А режиссер лишь заставляет слова двигаться на экране.
– Существуют темы, писать на которые вы не будете никогда?
– Конечно. Я никогда не буду писать на темы, в которых не разбираюсь и для раскрытия которых не имею жизненного материала. Например, мне никогда не придет в голову писать о жизни сексуальных меньшинств. Я никогда не буду писать о субкультуре наркоманов. Поскольку считаю, что эту тему надо постараться вообще выдавить из культурного поля. Нельзя забывать, что литература и искусство обладают мощным заражающим эффектом. Есть и другие темы, на которые я не стану писать. О спорте, например. Мои герои ходят по тем профессиональным и социальным пространствам, которые я знаю.
– В какой мере современной литературе присущ социальный оптимизм?
– У нас есть целое направление, именуемое «поздним постмодернизмом», которое вообще не понимает, что такое оптимизм. Тут говорить не о чем. Но лично я работаю в классической традиции русской литературы, в основе которой в той или иной степени, даже подсознательно, лежит все-таки православная этика. А она оптимистична. Уныние греховно. И в принципе, если бы у меня не было веры в нравственную возможность человека преодолеть любые тяготы истории, я, наверно, просто не смог бы писать. Впрочем, Валери заметил, что все оптимисты пишут ужасно скучно. Поэтому некоторая доля здорового пессимизма литератору тоже не помешает.
– Хорошо. Порой говорят: «Искусство требует жертв». Известный тезис. А каких жертв требует занятие литературой?
– Занятие литературой требует отказа от многих жизненных радостей. Человек, пишущий прозу, должен большую часть жизни проводить за письменным столом. Затем честная литература предполагает готовность человека в любой момент пойти на жертву и на серьезный конфликт. Например, как ни странно, гораздо больше неприятностей мне принесли не повести «ЧП районного масштаба» и «Сто дней до приказа», а повесть «Апофегей». В ней впервые сатирически был изображен Ельцин. И это мне до сих пор икается.
– Уж коли заговорили о жертвах и конфликтах, не могу не спросить о публикации в журнале «Новое время» (№ 29, 2002). Там говорится об ужасах вашего «городка». Прочитав ее, у читателя вполне может сложиться впечатление, что ютится «Литературная газета» в нескольких комнатушках, а будет ли она выходить в августе – неизвестно. Между тем в библиотеки газета исправно поступает, а придя в редакцию, я едва не заблудился, разыскивая ваш кабинет. Да, мне, работающему в СМИ, известно, что читать издания праволиберального толка – все равно что путешествовать по болоту. С другой стороны, уверен, что среди читателей «Солидарности» есть и читатели «Литературной газеты». И им было бы интересно узнать, «откуда ноги растут»?
– Я скажу откуда. Все очень просто. Дело в том, что «Литературная газета» с конца 80-х годов и до весны 2001 года, когда я пришел в редакцию, была однозначно либеральной, была печатным органом московской либеральной интеллигенции. Она рассматривала только свои проблемы и печатала только своих авторов. Достаточно сказать, что в газете на протяжении десяти лет не упоминалось имя Распутина. Его можно любить и можно не любить, но как можно не упоминать его имя десять лет?! Мое имя, кстати сказать, тоже не упоминалось более пяти лет в отместку за мою статью «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!» в октябре 93-го.
И как только я пришел в газету, то сразу сказал: «Стоп, мы становимся газетой всех думающих людей. Нас не интересует, кто ты – либерал, патриот или монархист. Есть у тебя идеи – высказывай, полемизируй, спорь!» И так мы сразу расширили спектр газеты. Но ведь как устроен российский либерал? Он свободу слова понимает только для себя: «Свобода слова есть тогда, когда я могу говорить все, что думаю. Но это совсем не значит, что и мой оппонент может говорить все, что он думает. Да еще в газете, где говорю я». И перемена жутко возмутила многих, даже тех авторов, которых, кстати, мы продолжаем печатать. Возмущает именно то, что рядом с ними в газете появились авторы, придерживающиеся иных взглядов. Более года раздражение накапливалось. В итоге эти раздраженные люди выбрали для своего демарша журнал «Новое время». И, как вы справедливо заметили, половину наврали. Потому что наши дела гораздо лучше, чем у того же «Нового времени». Хотя, конечно, проблемы есть. А у кого их нет?
Но главное, за всем этим стоит принципиальное непонимание, что подлинная демократия – это когда присутствуют все идеи и побеждает наиболее привлекательная для всего общества. И если завтра выяснится, что наиболее привлекателен социализм – значит, надо будет возвращать социализм. А то ведь как получается? Капитализм нужен потому, что мне, живущему на гранты Фонда Сороса, он нравится. А то, что он не нравится многим другим, не важно. Все они в таком случае – «агрессивно-послушное большинство». Именно людей, в свое время обзывавших народ агрессивно-послушным большинством, очень не устраивает нынешняя позиция «Литгазеты». Если у нас присутствует и другая точка зрения, мы – по их логике – черносотенцы, красно-коричневые и мерзавцы.
– Вспоминается Башмаков – герой книги «Замыслил я побег…». Споря о том, почему страна, «казавшаяся несокрушимой, вдруг взяла и с грохотом навернулась, словно фанерная декорация, лишившаяся подпорок», он пришел к выводу: «Нельзя радоваться чужому больше, чем своему, нельзя ненавидеть свое больше, чем чужое, нельзя свое называть чужими именами. Нельзя! Есть в этом какая-то разрушительная тайна». Но все ли так думают? Недавно вы посетовали, что в среде творческой интеллигенции, особенно столичной, антисоветскость постоянно гальванизируется.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



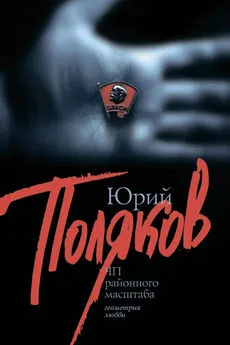
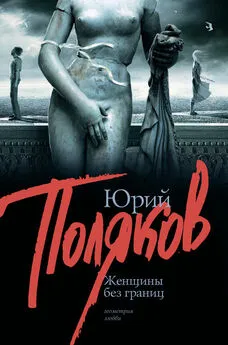
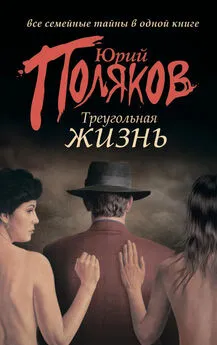
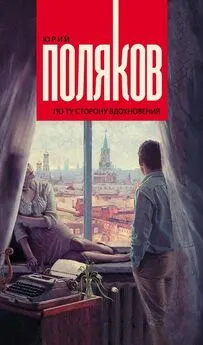
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник litres]](/books/1074081/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-litres.webp)
![Юрий Поляков - Красный телефон [сборник]](/books/1074082/yurij-polyakov-krasnyj-telefon-sbornik.webp)