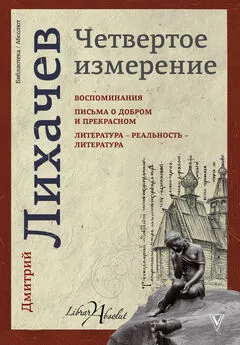Дмитрий Лихачев - Заметки о русском (сборник)
- Название:Заметки о русском (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аттикус»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-09027-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Лихачев - Заметки о русском (сборник) краткое содержание
Заметки о русском (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В литературном произведении только с самой примитивной точки зрения непременно должен быть положительный герой. Пушкин писал о «Горе от ума»: «Теперь вопрос: в комедии „Горе от ума“ кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов» (П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984, с. 135).
«Воспитывает» читателя точка зрения автора, сам автор и то, что читатель о нем знает. Вот почему автор и в личной жизни, и в своих частных взглядах, в своем повседневном поведении должен быть безупречен. Ничего скрытого. Все скрытое станет явным и разрушит созданное им, как сель – прорвавшийся с гор грязевой поток.
Достоевский
В Ленинграде произошел следующий интересный случай. Стоял вопрос о создании в нашем городе скромного памятника-знака Достоевскому. И вот ответственное лицо говорит: «У Достоевского нет положительного героя». И ведь верно! Кого мы можем назвать из действующих лиц в произведениях Достоевского, которому хотелось бы подражать? А между тем воспитательная сила произведений Достоевского исключительно велика: она в нравственной позиции самого Достоевского, умеющего глубоко проникнуть в суть нравственных проблем, – извечно нравственных. Ибо «буржуазная мораль» – это не настоящая мораль, а искривление морали. В буржуазном обществе (то есть в обществе капиталистов) моральные проблемы решаются, но решаются неправильно. Есть мораль вечная. И это особенно ясно сейчас. Когда наша страна обращается ко всему миру с требованием мира, разве она не апеллирует к вечной общечеловеческой морали? И литература должна решать извечные моральные проблемы – их бесконечное множество, и они бесконечно сложны. «Положительному герою», будь даже он атлантом, не вынести решения всех нравственных проблем. Поэтому нужны не только положительные герои, но и более выносливая и более необходимая (читателю) нравственная позиция писателя. Кстати, вот почему личное моральное поведение писателя, особенно поэта, имеет такое большое значение. Писатель, беззастенчиво карабкающийся вверх, неудержимо падает вниз.
Честертон имел в виду примитивно морализирующих авторов. Морализирование – не путь писателя. Писатель должен только подводить читателя к решению нравственных проблем. Читатель и в нравственных вопросах должен быть сотворцом автора. А если прямо морализировать, то не надо писать художественных произведений: становись проповедником, и все тут!
Первое «заострение», которое я себе позволю, заключается в следующем.
В мире произведений Достоевского существенную роль играет психология – художественная психология, противоречащая, а отнюдь не тождественная той, которая существует в мире действительности.
В самом деле, сказать, что психология действующих лиц Достоевского верно отражает психологическую сложность действительного мира, верно описывает нервные и душевные заболевания, – значит ничего не сказать об этом гигантском этаже возводимого Достоевским своего здания мира.
Достоевский просто не противоречит в своей психологии законам человеческой психики, однако отбирает он из этой психики только определенные черты. Он берет из действительности только строительный материал, но строит он из него другой мир, не всегда похожий на тот мир, в котором мы живем. В этом мире концентрируются определенные черты, делающие возможным разрешение тех философских задач, которые перед ним стоят.
Какие же особенности характеризуют психологический мир Достоевского? Ответить на этот вопрос кратко отнюдь не просто. Нам поможет, однако, художественный мир сказки: неожиданные поступки – неожиданные и для автора, и для читателя, и для самого действующего лица; непредвиденное в поведении человека; непредусмотренное.
Душевная болезнь важна для Достоевского своими нарушениями психологических закономерностей.
Подросток говорит (глава VIII): «У человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается».
Многое в действии произведений Достоевского остается невыясненным. Неизвестно почему (и эту неизвестность подчеркивает автор) приезжает Алеша к отцу в начале романа «Братья Карамазовы».
Н. И. Чирков в своем труде «О стиле Достоевского» (1964, с. 58) говорит: «Писатель о движущих мотивах поведения Мышкина не говорит четко и ясно, не характеризует того или иного мотива полностью, намеренно не ставит точки над i».
В литературном произведении есть определенные слагаемые, по которым легко определить – опытен автор или неопытен, талантлив он по-настоящему или посредствен. Только настоящий писатель, например, умеет вести диалог. В диалоге не должен «присутствовать» читатель. То есть не должно быть ощущения, что автор озабочен – поймет диалог читатель или не поймет, будет ли диалог или даже разговор нескольких лиц во всем и до конца ясен. Изумительнейший мастер диалогов – Достоевский. Перечтите, например, ну хоть бы начало его главки «За коньячком» в «Братьях Карамазовых». Здесь каждое слово нужно, необходимо, характеризует действующих лиц и одновременно подвигает вперед действие романа.
А затем. Как Достоевский умеет предварять будущие события. Перечтите первое появление Грушеньки в главе «Обе вместе». Это появление у ее же соперницы – Катерины Ивановны прежде всего невероятно по своей неожиданности: «Поднялась портьера, и… сама Грушенька, смеясь и радуясь, подошла к столу».
Достоевский, описывая появление Грушеньки, часто повторяет одни и те же слова и выражения, постепенно меняя их смысл. Он пишет «радуясь», но когда он снова пишет «радуясь», он берет это слово в кавычки, как бы ставя его под сомнение. А затем под сомнение берется весь облик Грушеньки, все ее поведение, настораживая читателя и подготовляя его к столь неожиданному все же скандалу. Алеша смотрит на Грушеньку: «И, однако же, пред ним стояло, казалось бы, самое обыкновенное и простое существо на взгляд…», «полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными до какой-то особенной слащавой выделки, как и голос ее». И далее постоянно: «как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед», «несколько выдававшаяся», «и как бы припухла». И далее сомнение в правдивости ее поведения все больше входит в описание Грушеньки: «Она глядела как дитя, радовалась чему-то как дитя, она именно подошла к столу, „радуясь“ и как бы чего-то ожидая с самым детским нетерпеливым и доверчивым любопытством. Взгляд ее веселил душу, – Алеша это почувствовал. Было и еще что-то в ней, о чем он не мог или не сумел бы дать отчет, но что, может быть, и ему сказалось бессознательно, именно опять-таки эта мягкость, нежность движений тела, эта кошачья неслышность этих движений…» Я не привожу далее этого описания внешности Грушеньки, описания все более и более проникающего в ее суть, как надвигающееся в объективе кинокамеры изображение. Противоречия во внешности Грушеньки все углубляются, делаются заметнее для Алеши, который в этом описании как бы представительствует читателя (для Достоевского это характерно: читатель всегда имеет своего «представителя» в самом тексте его произведений). А затем разражается знаменитый скандал, столь тщательно подготовленный этим портретом Грушеньки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: