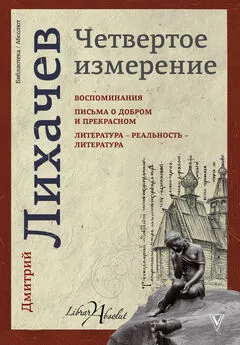Дмитрий Лихачев - Заметки о русском (сборник)
- Название:Заметки о русском (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аттикус»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-09027-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Лихачев - Заметки о русском (сборник) краткое содержание
Заметки о русском (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чехов дал неверное название своей пьесе – «Вишневый сад». Варенье – «вишнёвое», а сад «ви́шневый». Кроме того, дворянские усадебные сады никогда не были вишневыми. Да и вид у вишневых садов мелкий. Были липовые, дубовые – много было больших и долголетних деревьев для усадебных садов. Имение-то ведь родовое – долголетнее. Ну что поделаешь: Чехов был из Таганрога.
Подобно тому как бесконечно большая или бесконечно малая величины могут находиться одна в другой (одна бесконечность в составе другой), так и в индивидуальном многообразии творческих возможностей художника находится «однообразие» его личности, самой по себе бесконечно богатой (человек – это одна из форм бесконечности), а затем в эстетическом богатстве настоящего (подлинного) художественного произведения есть его «организованность» стилем. Художественный стиль организует и ограничивает безграничные художественные возможности художественного творчества. Наконец, есть и еще одна важная особенность «эстетики художественного произведения»: при общей ограниченности художественных средств (как в балете, в фольклоре и пр.) эти средства в соединении стиля совершенно различны по эстетическим функциям. Это безграничность в ограниченности!
Новые перспективы открывают не столько те или иные книги, сколько их авторы и предмет изучения. Вечно новые перспективы открывают работы А. Н. Веселовского, М. Бахтина, А. Ф. Лосева, а из живых советских ученых (зарубежных я не беру) работы Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, С. С. Аверинцева, В. В. Бычкова.
А стимулирующими «предметами изучения» являются Достоевский, Лесков, Толстой, разумеется – Пушкин, надеюсь – Державин. Проблемой изучения, наиболее актуальной сейчас ввиду необходимости найти подход к построению истории культуры, является, на мой взгляд, исследование соответствий и несоответствий (последнее не менее важно, чем первое) между различными видами искусства и культуры.
Бессилие литературоведения ярко сказывается в «анализе» литературного произведения путем пересказа – более или менее подробного. Художественное произведение «говорит» только в своей форме. Пересказ всегда искажение, упрощение и «оскучнение».
Мелочи играют в научных исследованиях исключительно большую роль. Повторение опечатки оригинала позволяет установить копию. Первоначальное имя героя будущего романа открывает замысел. Фамилия и имя говорят об образе действующего лица. Та или иная стилистическая общность свидетельствует о литературном влиянии, о принадлежности к литературному направлению и т. д. В этом огромная роль частных исследований – они доказательны, чаще всего бесспорны и открывают путь обобщениям. Широкие темы, как бы ни заманчиво выглядели их названия, обычно ограничиваются журналистикой и рассеиваются, тают в воздухе, как туман. Поэтому поход против «узких тем», каковы бы они ни были, наносит существенный ущерб науке.
Лесков
Письмо проф. Эджертону
Дорогой коллега,
спасибо Вам большое за прекрасную книгу переводов из Н. С. Лескова. Подбор произведений и самые переводы сделаны с большим вкусом.
Мне хочется поделиться с Вами некоторыми своими мыслями о Лескове. Может быть, они будут Вам интересны как непосредственные впечатления его русского читателя.
1. Лесков был самым читаемым автором средней русской интеллигенции конца XIX и первой четверти XX века. В среде средней интеллигенции и в провинции его читали больше, чем Толстого, Тургенева и Достоевского. Я вырос в среднеинтеллигентской семье. Мой отец был рядовой инженер. Дома у нас тоже очень любили Лескова. Это было у нас самое любимое чтение. Прочитанное часто обсуждали за чаем. Иногда читали вслух две-три странички, которые особенно понравились. Праведники Лескова были друзьями нашей семьи. Они часто упоминались в разговорах. Особенно, помню, любили Ахилу из «Соборян». Другой автор, которого мы очень любили, много читали, но обсуждали гораздо меньше, был Всеволод Соловьев.
2. Популярность Лескову особенно создавали его чудаки и праведники. В России всегда любили чудаков, и чудаки не были редкостью в нашем быту. Это трудно понять иностранцу. Но на этом строилась и популярность юродивых. А насколько часты были чудаки и праведники, я могу дать Вам представление хотя бы на примере опять-таки нашей семьи. Сестра моего отца была очень некрасива и удивительно просто и добродушно переносила свое несчастье. Всю свою жизнь она помогала окружающим и слыла блаженной. Она умерла во время блокады Ленинграда, отдавая другим все, что получала сама. Она отдала одной бедной еврейской семье даже свою комнату, а сама переселилась в холодную и сырую пристройку. И все это делалось ею без всякого надрыва и сознания своей праведности. Напротив, она считала добрыми не себя, а всех окружающих. А лесковский «Однодум» ко мне заходит не реже чем раз в месяц. Заходит, чтобы решить со мной какой-нибудь вечный вопрос. Ему за восемьдесят лет. Одет он самым бедным образом, хотя зарабатывает много. Все, что он получает, он раздает и считает, что на себя надо тратить как можно меньше. Он кончил Московский университет, но, глядя на него, Вы подумаете, что он простой чернорабочий. Одно из его чудачеств – не признавать трамваев и автобусов. Он ходит пешком, ест главным образом сырые овощи и черный хлеб. Приходит он за десяток километров, чтобы разрешить какой-нибудь вопрос, спросить, что я думаю по тому или иному поводу. И сам над собой посмеивается. Окружающие его любят и уважают и не сердятся, когда он им делает выговор за какой-нибудь проступок. Обаяние чудака! А в Пскове живет еще один чудак – известный археограф и знаток древнерусских древностей. Это Л. А. Творогов. Когда он идет по улице, окруженный собаками и детьми, хромой, но очень красивый, несмотря на свой почтенный возраст, то движение останавливается.
3. Русская литература XIX века очень многим обязана культуре устного рассказывания, к которому в старой России предрасполагал медлительный быт, длинные, многодневные путешествия на пароходе или по железной дороге. В путешествиях процветали задушевные беседы, ценились хорошие рассказчики. Был еще обычай «сумеречничать». Дело в том, что переход от дневного света к ночной тьме совершается на севере очень медленно. Еще в моем детстве, когда не было электричества, экономили керосин и свечи. И вот в сумерки, когда нельзя было уже работать, но еще не было совсем темно, женщины садились и начинались рассказы. В результате вокруг было много изумительно одаренных рассказчиков. С одним таким рассказчиком я познакомился в больнице. Это был старый военный моряк, не раз ходивший вокруг света. Он мне много рассказывал из того, что когда-то слышал в кают-компании своего корабля. Некоторые истории ему рассказывала еще в детстве бабушка. Слушая его рассказы, я понял истоки мастерства Лескова, Станюковича и др. Лесков весь вышел из таких рассказов. Да Лесков этого и не скрывает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: