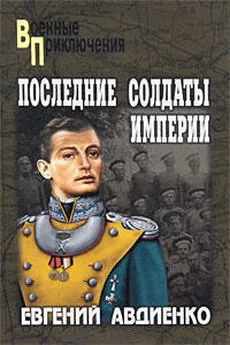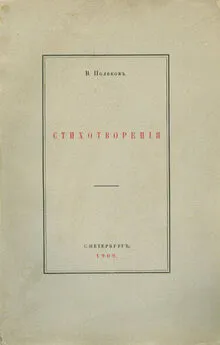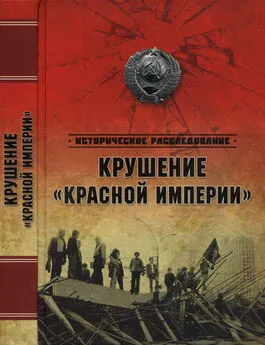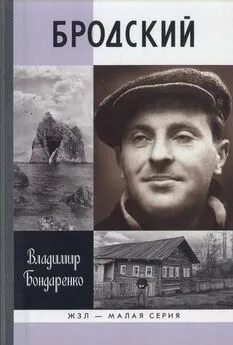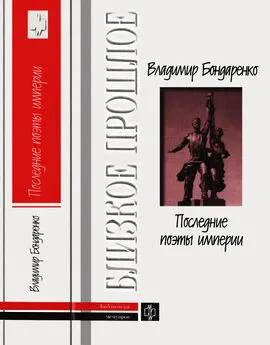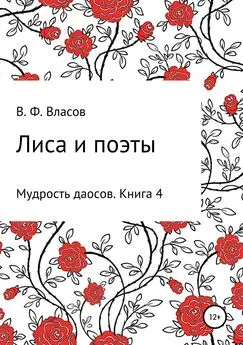Владимир Бондаренко - Последние поэты империи
- Название:Последние поэты империи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Бондаренко - Последние поэты империи краткое содержание
Последние поэты империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(«Портрет», 1962)
Было это или не было на самом деле? Или нужна и зэкам иногда какая-то героическая, утопическая опора в их бытовой изнуренной жизни? Не знаю. Впрочем, думаю, что его земляк Анатолий Жигулин с его «мученической позицией», тоже прошедший лагеря, эти стихи точно бы не принял. Потому они и относились друг к другу крайне осторожно, как два абсолютно разных стана. Сейчас, после смерти и того и другого, много появляется легенд и слезливых сказок о их дружбе. К счастью, сохранились письма, которые никого из них не унижают, но четко разводят по своим поэтическим мирам. (Хотя понимающий поэзию и сам бы смог прочувствовать абсолютную чужесть этих миров.) «Жигулин ответил из Москвы письмом... Говорит: в январе, может, буду (в те годы поэты часто выступали в лагерях. — В. Б.)... Я подумал так, нужно на случай встречи определить свою позицию заранее. Он, может, ждет стихов, родственных его стихам. Поэтому я сразу же решил «размежеваться» и выслал два стиха из философских, назвав их своим главным направлением. Это избавит меня при встрече от лишних разговоров о том, что пишу, что беру за основу» (из письма Инне Ростовцевой).
Он боится соскользнуть на эту лагерную тему и потому вновь и вновь добавляет в своих письмах: «Пусть сразу узнает, что я избрал другое направление, которое, как я сказал ему, в «страдательных» и прочих условиях не меняется. Мне мало видеть хлеб — мозоли, тяжесть труда, — мне нужен Мир, Век, Человек. Человек изнутри, а не одна его роба и т.п. ...Планов жигулинской прочности в мире нет и не будет, как и другого, что им, Жигулиным, делается на земле. Или ничего, или Мое».
Это не борьба с Жигулиным. Переписка и отношения с ним продолжались, но это — ясное понимание своей темы в поэзии, даже в лагерных условиях. Это выработка своей философии добра и справедливости, даже если весь мир предстанет злым и недобрым. Это принятие всей, в том числе и лагерной, действительности.
Собственно, такой же федоровско-циолковско-платоновской философией добра и справедливости он пробовал сохранить и спасти свой мир добра и справедливости. Может быть, он был последним философическим русским поэтом XX века?
Мирозданье сжато берегами,
И в него, темна и тяжела,
Погружаясь чуткими ногами,
Лошадь одинокая вошла.
Перед нею двигались светила,
Колыхалось озеро без дна.
И над картой неба наклонила
Многодумно голову она...
(«Мирозданье сжато берегами...», 1965)
Его поэзия настолько необычна в нашем XX веке, что трудно даже назвать его поэтических сотоварищей. Впрочем, один такой же и рос там же в Воронеже – уже упомянутый мной Андрей Платонов. Столь же странный и непонятный, столь же мечтательный и столь же трагичный, и еще — столь же соединяющий в себе конкретику индустриального мира, натурфилософию космоса, природную русскую отзывчивость к людям и откровенный национал- большевизм. Вот и Прасолов очеловечивал индустриальный мир, находил поэтику в индустриальных стройках.
Грязь колеса жадно засосала
Из-под шин — ядреная картечь.
О дорога! Здесь машине мало
Лошадиных сил и дружных плеч.
Густо кроют мартовское поле
Злые зерна — черные слова.
Нам, быть может, скажут,
Не грешно ли
После них младенцев целовать?..
Ну, еще рывок моторной силы!
Ну, зверейте, мокрые тела!
Ну, родная мать моя Россия,
Жаркая, веселая — пошла!
………………………………
И когда в единстве изначальном
Вдруг прорвется эта красота,
Людям изумленное молчанье
Размыкает грешные уста.
(«Грязь колеса жадно засосала...», 1964)
Конечно, по общей интонации наши литературоведы спешат определить в его стихах тютчевско-блоковскую традицию, да и сам Алексей Прасолов с этим спорить бы, наверное, не стал. Но не было во времена и Тютчева, и даже Блока таких слов, таких противостояний человека и материи, не было бетона и грейдера, не было «высокой скорби труб» и «вознесенья железного духа». Лексическое содержание совсем иное у Прасолова, а значит, и стихи — иные. Да и таких человеческих схваток друг с другом во времена Блока и Тютчева еще не было.
Все-таки после наших ГУЛАГов и великих войн, после наших строек и катастроф поэзия как бы обретала свою первичность. И как бы ни молился Алексей Прасолов на Блока, как бы ни зачитывался мастерами старой русской школы, выходя на свою стезю, на свою тему, он становится абсолютным поэтическим отшельником. Ибо — он выпадает и из зэковской прозы и поэзии: его радостного социального отношения к труду и к жизни не примут другие «сидельцы» — ни Варлам Шаламов, ни Леонид Бородин, ни тот же Анатолий Жигулин. А Прасолов и в лагере чувствовал свою державность и победность.
Долагерную поэзию Алексея Прасолова разбирать почти нет никакого смысла. Оставим это занятие дотошным литературоведам и краеведам, которым любая пылинка с его плеча сгодится. Конечно, его относят и будут относить к «детям поколения войны», да он и сам немало написал стихов о войне, как правило, мало удачных. Скажем, гибель на войне отца заслонило то, что отец бросил семью, и они с братом росли безотцовщиной. С матерью отношения тоже не ладились. От всего этого остались одни ощущения:
Итак, с рождения вошло —
Мир в ощущении расколот:
От тела матери — тепло.
От рук отца — бездомный холод.
……………………………….
И прежде всех земных забот
Ты выставь письмена косые
Своей рукой корявой — год
И имя родины — Россия.
(«Итак, с рождения вошло...», 1963)
Он и писал свои корявые письмена, отнюдь не заглядывая в недра фольклора, отказываясь от своей же песенности. В чем-то он, близкий по судьбе да и внешне Николаю Рубцову, чрезвычайно далек от него по своей поэзии. Да и читателей у Алексея Прасолова всегда будет, очевидно, гораздо меньше. Зато каких!
В поэзию Алексея Прасолова надо вчитываться, как он сам врубался в руду, работая на шахте, находить самому драгоценнейшие жилы среди добротных и вполне качественных лирических стихов. «А камни — словно кладбище / погибших городов...»
В чуде своего дара — он немногословен. Большинство его стихов, особенно ранних, я бы без сожаления отдал на растерзание Дмитрию Галковскому в «Уткоречь»[3]. Но вдруг среди простой, пустой породы — самородок, шедевр мирового уровня. Камень из кладки мировой культуры. Этот его период самородков тоже был не столь длителен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: