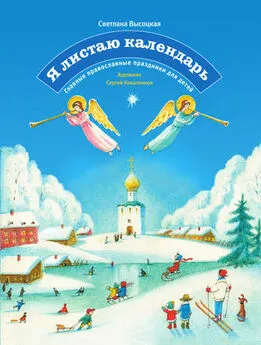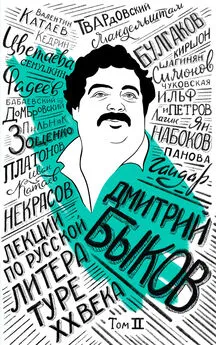Дмитрий Быков - Тайный русский календарь. Главные даты
- Название:Тайный русский календарь. Главные даты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-44972-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Тайный русский календарь. Главные даты краткое содержание
Под одной обложкой собраны эссе Дмитрия Быкова, написанные им в разные годы и на разные темы и объединенные единственно волей автора, который считает, что «истинный календарь русской жизни не вполне совпадает с официальным. То есть праздники-то те же самые, но вот настоящие названия у них другие. Идеальный способ употребления этих пестрых заметок — читать их в тот самый день, к которому они приурочены. Почитаешь — и поймешь, что все это уже было и вроде как выбрались. Выберемся и теперь».
Тайный русский календарь. Главные даты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот чернь — она и есть главный источник недоброжелательства: она ненавидит всех, кто выше, и презирает всех, кто ниже. А просто улыбнуться встречному — это для нее непредставимо.
…Свинаренко — вероятно, лучший интервьюер нашего времени — спросил не без подковырки: вас в последнее время часто называют мудрым. В чем, на ваш взгляд, разница между мудростью и умом?
Ответ Искандера был стремителен и блестящ.
— Умный, — сказал он, закуривая, — знает, как устроена жизнь. Мудрый же умудряется не раствориться в этом, то есть жить, мыслить и действовать вопреки этому знанию.
Лучшей формулы его литературного и человеческого успеха не придумаешь. Искандер не просто умен — то есть не просто понимает механизмы мироустройства, — но способен сохраняться в этом потоке, не растворяясь в нем, и жить вопреки прагматическим законам. С точки зрения здравого смысла его самоосуществление и самосохранение — отдельное чудо; однако способность принимать всерьез только самые главные вещи, презрительно отметая то, из-за чего сходит с ума большинство, выручала его многократно. Кстати, и фундаментальная проблема, над которой он бьется всю жизнь, — проблема соединения архаики и современности — вряд ли волновала большинство его современников, озабоченных то нехваткой свободы печати, то дефицитами, то политикой.
В 1979 году Искандер поучаствовал в «Метрополе» — двумя рассказами, ныне классическими; после разгрома альманаха у него рассыпали все книги, остановили все публикации и перестали приглашать на выступления. То есть он остался без средств к существованию, с женой и маленьким сыном на руках.
Он сдал квартиру и уехал жить на причитавшуюся ему писательскую дачу во Внукове — дачи, по счастью, не лишили. Дом был картонный, холодноватый даже для лета. Вдобавок Искандер начал слепнуть на один глаз — то ли от стресса, то ли от давления.
— И тут, — рассказывал он, хохоча заразительно и раздельно — ха! ха! — наступила полная беспечность. Я понял, что больше они у меня ничего не отберут и я совершенно свободен. Разве что посадят, но сажать они уже не хотели. Это вредило им самим. Было чувство, что достиг дна и можно оттолкнуться. Пожалуй, я никогда не был так весел, как в эти полгода.
(А что он делал в эти полгода? Писал «Кроликов и удавов», восхитительно беспечную вещь.)
Проза Искандера — одна из немногих опор русского читателя в современном мире, в котором все съехало с основ и держится на честном слове. Каждое слово Искандера — неизменно честное, веское и веселое — возвращает читателю чувство, что мир стоит на прочной опоре и никуда не денется, и усилия наши по-прежнему имеют смысл.
Всем его коллегам — в большинстве своем, конечно, младшим, ибо Искандер вошел в патриаршеский возраст и проживает его достойно, с горским изяществом и стоицизмом, — гораздо легче становится от мысли, что каждое утро он садится за свой письменный стол и записывает стихи, афоризмы, публицистику, а то и прозу, если повезет. В этом есть благотворная незыблемость, но дело не только в этом. Казалось бы, он сделал достаточно — и для признания, и для бессмертия. Из мировой литературы уже не вычеркнешь дядю Сандро, восхитительного болтуна, хитреца, лентяя и труженика, ловкача и воина, танцора и пахаря; и старый Хабуг, и Тали, и даже несчастный козлотур, не дающий потомства, но увековеченный в уморительной повести 1966 года, — все теперь так же полноправны и полнокровны, как Тиль, Чичиков, Безухов, Швейк или Мелькиадес.
Но он работает — как дерево не может не плодоносить, как земля не может не родить, как гора не может не возвышаться над прискорбно-плоским окружающим пейзажем. Работа может быть естественной, как дыхание, и необходимой, как вода, — и он, вернувшись к юношескому увлечению стихами, пишет совсем коротко и просто:
Жизнь — неудачное лето.
Что же нам делать теперь?
Лучше не думать про это.
Скоро захлопнется дверь.
Впрочем, когда-то и где-то
Были любимы и мы —
А неудачное лето
Лучше удачной зимы.
Ну раз Искандер работает — все в порядке.
8 марта. Родился Шалва Амонашвили (1931)
Мравалжамиер, батоно Шалва!
8 марта этого года исполнится 80 лет прославленному педагогу-новатору Шалве Александровичу Амонашвили, и тут, господа, передо мной встает задача почти неразрешимая. С одной стороны — Амонашвили безусловный классик мировой педагогики, уже стоящий в одном ряду с Сухомлинским и Соловейчиком, а может, и Ушинским. Его собственные педагогические результаты — как почти у всех основоположников собственных образовательных систем — неизменно блестящи, хотя в чужих руках эта система демонстрирует собственную неуниверсальность, поскольку каждая педагогическая методика есть прежде всего описание неповторимого авторского опыта; гениальный учитель, как и гениальный исполнитель, может надавать тьму практических советов, но научить гениальности нельзя. Систем Станиславского или Чехова, увы, это касается в той же степени. А с другой стороны — никто, пожалуй, из крупных современных педагогов, в диапазоне от Ильина до Шаталова, не вызывает у меня столько вопросов, претензий — а то и личных, страшно сказать, несогласий. И на естественное «А ты кто такой?!», почти неизбежное в устах безоглядных адептов Шалвы Александровича, я смею лишь представиться: потомственный учитель, преподающий и ныне. А кроме того, разве только учителям дозволено иметь личное мнение о гуманно-личностной системе образования, предложенной Амонашвили в развитие идей Давида Лордкипанидзе, Дмитрия Узнадзе и Барната Хачапуридзе?
Амонашвили может и должен раздражать, с ним можно и нужно спорить. Кого-то не устраивает его чрезмерное внимание к учению Рерихов — этим особенно недовольны православные, но дело ведь не в конфессиональной ревности, а в том, что на понятии «духовность» кто только не паразитировал, особенно во второй половине восьмидесятых. Кого-то — например, меня — буквально бесит то, что Амонашвили, доктор психологических наук, членкор, автор сотен публикаций, всерьез воспринимает «детей индиго» и утверждает в интервью, что сегодня явилось новое поколение акселератов, только уже в духовной сфере. Сколько практикующие педагоги натерпелись от этих индиго! Является к тебе родитель и требует поставить его юному гению пять, а то и вовсе не ставить оценок, потому что мальчик у нас особенный, он индиго, и если он среди урока принимается ходить по классу, шепча непонятное, или доказывать учителю, что тот ничего не понимает, а физические законы отменяются, — надо смиренно преклониться; это нам у них учиться, а не им у нас. Вообще у всех гениев бывали завиральные педагогические идеи — еще Лев Толстой на полном серьезе сочинил статью «Кому у кого учиться писать — крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят», и в ней много здравого, но запальчивости больше. Скажу вовсе уж крамольное: уважать-то ребенка, конечно, надо, и любить, и беречь, и все такое, — но я как-то больше за Честертона, сказавшего: «Запретив себе приказывать детям, мы отнимаем у них право на детство». И видеть в ребенке, по совету Амонашвили, великую миссию, с которой он призван в мир, и любить его таким, каков он есть, — я совершенно не готов, потому что в очень многих детях с ранних лет различимы такие пороки и наклонности, что некритично обожать и уважительно развивать все это кажется мне прямой капитуляцией перед злом; и бесконечные разговоры о том, что ребенка надо прежде всего любить, а все остальное потом, — кажутся мне попросту вредными для педагогического процесса. Наше дело — научить ребенка чтению, письму и счету, знанию источников, поиску фактов, выбору профессии, самоотверженной работе, потому что все это гораздо трудней верифицируется; а вот духовность, индиговость и даже, простите, гуманность имитируются крайне легко. Ребенок может притвориться духовным и научиться с умным видом изрекать пафосные банальности, и в классах новаторов мы этого навидались; а вот имитировать знание источников он не может, и систему уравнений с помощью гуманности не решит. Мне, грешным делом, всю жизнь кажется, что гуманен тот, кто умеет задумываться и сомневаться, а это свойственно прежде всего тем, у кого хорошо развита соображалка; вот с нею и надо работать, поменьше разговаривая о любви. И когда другой замечательный педагог и теоретик, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков говорит, что слишком-то любить ребенка учителю, пожалуй, и не надо, ибо это ведет к опасным профессиональным деформациям, — я почему-то охотнее верю ему, ибо сектантских классов, где учитель становится для школьника полубогом, тоже видел достаточно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: