Валерия Пустовая - Матрица бунта
- Название:Матрица бунта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерия Пустовая - Матрица бунта краткое содержание
, Слава Сэ,
, Марта Кетро, Елена Крюкова, Дмитрий Данилов,
, Владимир Мартынов, Олег Павлов, Дмитрий Быков, Александр Иличевский,
, Павел Крусанов,
, Илья Кочергин, Дмитрий Глуховский, Людмила Петрушевская, Виктор Ерофеев, Ольга Славникова и другие писатели.
Матрица бунта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В сказке все не понарошку: «Ты меня не слушаешься. <���…> Сейчас я тебя убью», — проговоривший эту воспитательную формулу леший в конце главы непременно зажарит на шампуре шестерых только что галдевших гномиков. Вместе с очнувшимся в лесу Мальчиком мы доподлинно видим — «белую матовую кость» в башмаке Яги, доподлинно трогаем — ногти на засове из человечьей ноги, доподлинно теряем равновесие — на скользком от горячего масла подносе, покачивающемся под детенышем. И не приведи вас Бог смотреть, когда зайцу, в котором утка, в которой яйцо с иглой, будут вспарывать живот. Художественное достижение Старобинец, конечно, не в тошнотворности этих «ужасов», а в их своеобразной невыдуманности — автор просто разрабатывает по максимуму прием образного проживания канонической схемы, в общем-то основополагающий для литературной сказки. Но там, где другие идут по пути художественного перевода архаической схемы на модернизированный язык культуры, Старобинец дает подстрочник, создавая эффект умаления авторского сознания.
А между тем в продумывании канона до деталей, им упущенных, как раз и проявляется сила художнического начала. Так иллюстрация к сцене с пряничным домиком из сказки братьев Гримм обретает подвижную трехмерность — как только мы вслед за автором ясно видим, что такой дом не могли бы не облепить мухи. Наибольшая же, как я считаю, удача Старобинец в оживлении мертво-культурной схемы — это образ кисельной топи «с резким ягодным запахом» возле теплой и маслянистой молочной реки, вызывающей одновременно «жажду и отвращение»: «Мальчик выпил всю пригоршню <���…>, а потом с ужасом обнаружил, что увяз уже по пояс в кисельном берегу».
Восстановленная зримость сокрытого мира сказки — своего рода возмездие инобытия, высвобожденного из подсознания культуры. Эффект созерцания царства смерти в ее произведениях сродни классическим формулам: «не ждали» и «есть и Божий суд». Средствами сатиры и антиутопии изображая дневную московскую реальность (в романе не обходится без отсылок к недавним политическим интригам, и обличения пагубы телевидения, и насмешек над стандартами жизни в обществе потребления), Старобинец обнажает ее половинность , восстанавливая мир до целого средствами сказки.
«Скучная, неловкая, недоразвитая логика бодрствования» в первых произведениях Старобинец капитулирует перед сном отмщенной инореальности. Обличая недальновидность ее цивилизованного восприятия как сна. Неверие, развившееся в потребительство и гедонизм как базу постмифологической культуры, не отменило интереса инореальности к человеку — но сделало его перед ней беззащитным. Захвачена сказкой вся Россия, обращенная ведьмой Люсифой в спящее королевство («Убежище 3/9»), гибнут брат и сестра, приспособленные цивилизацией насекомых под муравейник («Переходный возраст»), обезлюдевшая Москва оставлена во власть биологических роботов («Живые»).
Акт возвращения дневному миру цивилизации его вывернутого продолжения — мира ночного и архаичного (то есть возникшего на заре времени, задолго до, а значит, и не в связи с цивилизацией, с ее ведением и неведением, верой и неверием) — есть действие глубоко мифологичное. В этом смысле расширение частной сказочной истории до апокалипсического, вселенского сюжета в романе вовсе не следствие инерции пробега. Литературная миссия Старобинец — остановить профанацию жанра, опрокинув комфортное восприятие сказки как груды культурных артефактов , — не может состояться без реабилитации мифа как праосновы сказочного канона.
Сказка вспоминает о мифе, как о сне — встрявшем в дневное сознание в виде «ошметков какой-то большой, бесформенной, нездешней правды». Восстановить из ошметков целое способен только миф. Сказка приручает ужас и смерть — миф возвращает им серьезность неизбывных свойств бытия. Сказка интересуется частной судьбой — миф достраивает ее космический ландшафт. Поэтому удвоенная разработка образов сказочника («Того, Кто Рассказывает»), злой колдуньи и Мальчика Вани в «Убежище 3/9» как, соответственно, бога-творца, демона и спасителя мира нацелена на преодоление инерции энергетического истощения жанра, благодаря его восстановленному подключению к сакральным, сверхчеловеческим основаниях бытия.
Чувствительность к инореальности — почти невротичная основа художественного мира Старобинец, подрывающего принципы рационального, цивилизованного сознания. Подобно тому как сказочному путешествию в иномир Старобинец возвратила смысл пересечения границы жизни и смерти, так и мифологической бинарности, давно нейтрализованной символизмом культуры, она возвращает архаический нерв страха : живого — перед мертвым, видимого — перед невидимым, человека — перед нечеловеческим.
Подключение к мифу избавляет сказочный канон от педагогической сентиментальности — доведенной до абсурда, скажем, в «Вербе-хлест» Петрушевской, когда спущенного с цепи злодея, только что отрубившего голову королеве, удается усмирить угрозой лишения «вечерней конфетки». Сказка Старобинец — пространство чудовищного, нечеловеческого, таков же в ней и образ зла. «Чушь. У нас тут злых вообще нет. У нас только Нечистые», — раздраженно осаживает леший Мальчика («Убежище 3/9»). «Нечистые» — образ зла гораздо более древний, чем его культурная, этическая трактовка. Это « зло » как принципиально « чужое », иноприродное человеку. Ни сентиментальный диалог с «нечистыми» (сказка деконструкторов), ни их этическая интерпретация как жертв плохого воспитания (сказка «консерваторов») в прозе Старобинец невозможны: инореальности посторонни человеческие мотивы и чувства. «Зло» механично, безлично, чужеродно — оно не меняется, не любит, не умирает. И потому с отстраненной иронией взирает на человека как на существо «крайне непрочное и уязвимое», «не самое удобное в быту» («Живые»).
Классические образы антиутопии — роботы и тоталитарный муравейник, — как и традиционные мистические персонажи, не единственный у Старобинец способ изобразить «чужое». «Зло» проникает в человека почти на клеточном уровне, что создает в ранней прозе автора эстетику отвратительного. Эстетика отторжения у Старобинец — реакция на вторжение . Невротическая травма, с которой начинается эта проза, чурающаяся всего толпяного, системного, насильственного, омертвевшего и огрубелого. Начинается — но не сводится к этой травме. Страшные сказки Старобинец — образцовая иллюстрация к претворению болезненности в искусство. Невротическое переживание высветляется в духовный сюжет.
Серьезность «героической» сказки вовсе не в том, что она страшна, а в том, что — требовательна . Магическую силу героя испытывала архаическая сказка, проверяя, знает ли он, как «вынудить вход в иной мир» [108] Пропп В . Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт. 2005.
. Сказка Старобинец является испытанием духовной силы человека, которая включает в себя не только знание законов иномира, но и внутреннюю правдивость.
Интервал:
Закладка:
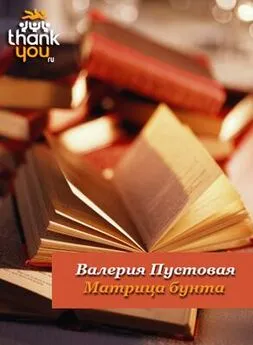

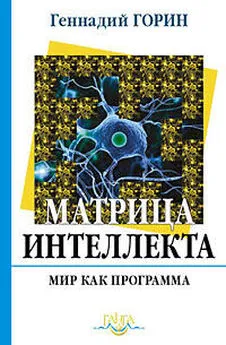

![Мак Рейнольдс - Фактор бунта. Галактический орден доблести [сборник]](/books/1063867/mak-rejnolds-faktor-bunta-galakticheskij-orden-do.webp)



