Валерия Пустовая - Матрица бунта
- Название:Матрица бунта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерия Пустовая - Матрица бунта краткое содержание
, Слава Сэ,
, Марта Кетро, Елена Крюкова, Дмитрий Данилов,
, Владимир Мартынов, Олег Павлов, Дмитрий Быков, Александр Иличевский,
, Павел Крусанов,
, Илья Кочергин, Дмитрий Глуховский, Людмила Петрушевская, Виктор Ерофеев, Ольга Славникова и другие писатели.
Матрица бунта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Позиция Павлова выражена в названиях его четырех заметок о «хороших» писателях, которые в книге идут одна за другой, так что получается что-то вроде декларативного стиха на восточный манер: «Пути и тропы». / «Стыдом и болью»/ «Ищущий правду» / «Господин Сочинитель».
Господин Сочинитель — это вера Олега Павлова в писателя с большой буквы. Вера утопическая, потому что в образе этого Господина так мало доступных воплощению черт, так мало снисходительности к человеческой ипостаси Писателя. В этом образе торжествует абсолютное начало, аккумулированное из представлений о писателе классического девятнадцатого века. Павлов удачно подбирает для божественного образа Писателя эпитет «громадный»: «громадная личная тема», «громадная судьба». В отличие от века двадцатого, сделавшего акцент на интимной психологии писательской личности, на проблеме сложного контрапункта в ней гениальности и болезненности (проблема эта как раз очень занимает Дмитрия Быкова), — век девятнадцатый обращен к общественной роли писателя, к его именно что громадности — заметности богатыря-Пересвета на поле брани с тьмой-тьмущей вражин. И Павлову дорог этот максимально далекий от писателя-человека образ «Господина Сочинителя». Того, который только крепче от бед и поношений. Того, кто знает о себе «непоколебимо, что не является ничтожеством». Того, наконец, кто не станет верить в конец русской литературы, потому что если поверит в это — тут же необходимо пустит себе «пулю в лоб».
Потому что Такой Писатель немыслим вне контекста традиции, его взрастившей, вне контекста многими судьбами освященных вер и принципов, моделей письма и поведения. «Не слышался даже мерный скрип моей авторучки», — характерное смещение в образе: мерно скрипит не ручка, нервная и скользкая, — скрипит требующее навыка правильного нажима перо. Павлов-писатель принес нам из позапрошлого века скрип пера и благовест о неумирающей русской традиции.
«Традиция», «правда», «опыт» — ключевые, даже по частотному анализу, слова в критике Павлова. «Опыт» у него не просто прожитое, а настоящее познание, приобщение к «правде» через личный опыт. Но «опыт» еще и синоним традиции, совокупности текстов русской классической литературы (в этом смысле фраза «воплощенные опыты» означает похвалу состоявшимся в русле традиции современным писателям).
Вопреки спорам о многих литературах, Павлов признает собственно литературой только тексты в духе высокой «национальной художественной традиции». Подобные тексты он называет «прозой» — в разрядку и в смысле самом возвышенном. Потому что «проза» для Павлова все равно что «поэзия» в устах иного утонченного эстета: это оценочное, восторженное прозвище литературы. В представлении Павлова о русской «прозе» немало простодушия. Он переоценивает абсолютность «классического типа» «нашей национальной литературы», полагая, что когда-то на Руси были читаемы и творили исключительно Пушкины с Достоевскими, что с ними никогда не смела соперничать ушлая беллетристика — «совершенно новый», по мнению Павлова, «тип литературы». Классика у Павлова — абсолют, по законам которого строится мироздание русской литературы. Классика — архетип всего русского, так что ход поперек литературной традиции воспринимается им как возмутительная попытка «преобразования самого русского культурного типа».
Вера в абсолютность модели писателя и литературы образца девятнадцатого века сопротивляется в Павлове веяниям новых эпох. По отношению к новому, не освященному «опытом», Павлов весьма насторожен.
Досадно читать сетования Павлова на какое-нибудь нововведение в литературном журнале — на том лишь основании, что прежде «ничего подобного в журналах не заводилось». И столь же досадно, когда Павлов попрекает именем классика — современность. Когда, скажем, убеждает нас в том, что «Новый мир» жив одним днем — «Одним днем Ивана Денисовича». По Павлову, «духом и смыслом» журнала, сыгравшего в судьбе этого произведения роль «отпавших ступеней ракеты», бесполезных после запуска классика, так и останется Солженицын. Будущее русской литературы, прогнись под прошлое «громадного писателя»!
Нельзя не заметить и то, что Павлов довольно скептически относится к индивидуальному в литературе: неизбежные издержки сознания писателя, сориентированного на пафос общественного служения. Традиция у Павлова выступает свидетельницей того, что у русской литературы «коллективное, как бы общинное творческое начало» (вариант вопроса о курице и яйце: Достоевский ли славен русским народом или народ — Достоевским?). Любопытно в этом смысле, что Павлов, приводя примеры художественных произведений, указывает только названия, имена авторов вынося за пределы текста или по крайней мере в его конец: словно не личность автора стала причиной появления текста, а мистическая сила безлично приумножаемой традиции «русской прозы»!
Размышления в русле самоотверженных, идеалистических, жертвенных исканий образца девятнадцатого века неизбежно приводят Павлова к характерным заблуждениям образованных людей того времени.
К троице Истины — Добра — Красоты, общепризнанно восседающей на троне русской словесности и мысли, на деле прилагаются еще скипетр и держава: Страдание и Вина. Олег Павлов, воспроизводя национальный духовный идеал, нечаянно сбивает нас с толку, упирая в своих статьях на Истину, Добро и Страдание. В действительности эти сущности — только поверхностный план его позиции в литературе. Глубинные основания высказываний Павлова связаны со служением Вине, что, может быть, не сознательно приводит его к отрицанию ипостаси Красоты.
Павлов порой жестко обрушивается на будто бы антинародное образованное сословие. На деле же он исповедует не что иное, как исторически выработавшееся в России отчаяние интеллигентского толка. «Жизнь сегодня строится на угнетении одних людей другими, но в России нового века это мало кого мучает, мало кому за это стыдно», — где в этой трагической пантомиме роль Павлова? Он не с угнетателями, не с угнетенными — он в отчаянной малости тех, кому стыдно. Исторически интеллигенция брала на себя стыд Отечества, желая вторить мучениям народа, угнетенного физически, — собственными муками угнетенных духом. При этом малочисленность тех, кому стыдно, а также их неприсоединенность ни к властвующим угнетателям, «кому все дозволено», ни к массе «бесконечно угнетенных» обрывали оппозиционные возможности интеллигенции на этом чувстве стыда. Что за мука: каяться в чужом зле — и не иметь возможности ничего исправить? Историческая невозможность действия — причина болезненного, раздвоенного сознания русской оппозиционной интеллигенции. Эта двойственность проникла вместе с идеалами образованного сословия девятнадцатого века и в сознание Павлова. Грустно было заметить логическое противоречие, изнутри высмеивающее смысл такого высказывания: «С этим нельзя смириться ни одному читающему пишущему русскому человеку, хотя подобное стало уже буднично и привычно». Смириться нельзя, но привычно стало. Значит, смирились, значит, и автору этих слов ничего не удалось сделать вопреки этой будничности и привычности. Значит, мало быть «читающим пишущим», мало быть (со)страдающим — необходимо хоть иногда становиться действующим.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
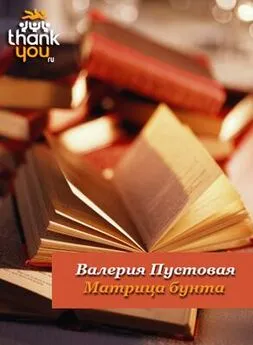

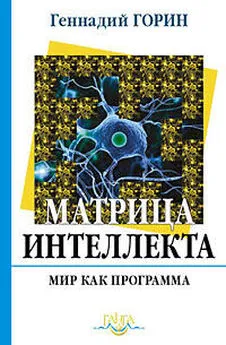

![Мак Рейнольдс - Фактор бунта. Галактический орден доблести [сборник]](/books/1063867/mak-rejnolds-faktor-bunta-galakticheskij-orden-do.webp)



