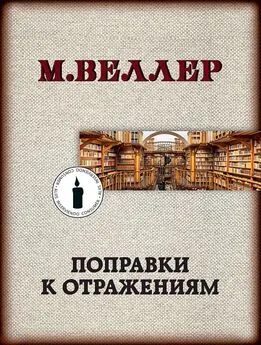Михаил Веллер - Поправки к отражениям
- Название:Поправки к отражениям
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-120868-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Веллер - Поправки к отражениям краткое содержание
Поправки к отражениям - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но! В 1973! Осень! Выходит телесериал «17 мгновений весны»! Непревзойденный с тех пор шедевр нашего сериального искусства! И этот сериал становится буквально главным эстетическим знаком эпохи.
Штандартенфюрер Штирлиц, Вячеслав Тихонов, — наш главный герой, рыцарь без страха и упрека. Мюллер-Гестапо, Броневой, — неотразимо обаятельный и мудрый враг-джентльмен. Наших подпольщиков бесспорно жалко, но эти эсэсовцы — такие славные ребята, прямо начинаешь любить их.
До сих пор не опубликовано научного такого, социопсихологического, эстетического и этического в сочетании, анализа этого сериала в восприятии советского народа — победителя фашизма. А это парадокс не такой простой.
Вся жизнь наша в 70-е годы превратилась в анекдот. И любовь к Штирлицу — это отнюдь не только любовь к герою-разведчику или к очень хорошо сделанному кино. Это — одновременно — чувство протестное! Это своего рода черный юмор: мы любим эсэсовцев — что смешно и приятно на фоне вашей безумной вакханалии фальшивых патриотических славословий. А то, что центральный эсэсовец — наш разведчик, так это отмазка, почему нам дозволено их любить, и одновременно перенос идентификации — мы тоже на самом деле красивые и смертоносные эсэсовцы в черном, трепещите с вашим коммунизмом!
О, любовь к штандартенфюреру — это феномен коллективного бессознательного 70-х годов, и важный, принципиальнейший феномен. Заметьте, ни один полковник в советской форме такой симпатии не вызывал. Ни фига се, да?
Ну, заодно необходимо вспомнить другой сериал, второй по популярности и любви народной — «Место встречи изменить нельзя». Им завершались 70-е годы, он уже в конце 79-го года вышел. Его все знают.
А роман, «Эра милосердия», по которому он поставлен, братья Аркадий и Георгий Вайнеры напечатали в 1975. Роман хороший, хотя сериал вышел гораздо лучше. Об этих разночтениях мы с Георгием Вайнером, с Жорой, где-то в 2000 году в Нью-Йорке говорили, сидели вечер.
Но была ведь еще струя совсем другая! Ее гораздо больше награждали и хвалили, хотя гораздо меньше читали. Деревенщики! Литература народная, от земли, русская, славянофильская, традиционная по форме и ценностям, консервативная по мировоззрению, здоровая духовно. Да, вполне можно так сказать.
Виктор Петрович Астафьев. Фронтовик, крестьянин, честный человек. У него вышла книга длинных новелл, цикл, или роман в рассказах — «Царь-рыба». Сибирская, северная, речная, лесная в основном жизнь. Книга хорошая и добрая. Наград нахватала, огромным тиражом вышла. Язык — ну, с вычурностью. Чтоб понароднее. Вода летит не брызгами, а комьями, и тому подобное. Но ничего. Зато энергично и выразительно.
С мыслями беда! Городские парни — плохие: развратные, слабые, без чести и совести, стяжатели-потребители. Деревенские, охотники и тому подобное — простоваты, незатейливы, слов столько не знают, зато надежные, порядочные, верные и добрые. Земля — в ней добро, город — зло. Спасибо, понял. А человек был прекрасный, честный, прямой. Жизнь его озлила. (В конце жизни написал «Прокляты и убиты». Война. Истребление всей крестьянской молодежи. Жукова ненавидел, мясником и кровопийцей называл.)
В 1974 году в журнале «Наш современник», который тяготел именно к консервативной народной литературе, скажем так, вышла повесть Валентина Распутина «Живи и помни». Вот тут резонанс был действительно огромный. Едва ли не по всем библиотекам страны прошли обсуждения и дискуссии: горестная история, почему Андрей стал дезертиром и что ему было потом уже делать, а как быть Настене (жене) такой прекрасной, и нельзя ей было топиться, и ребенка неродившегося погубила, а односельчане гады, однако, хотя и советские люди. В общем, серьезная мелодрама военной эпохи. И ситуация неоднозначная, и дали бы Андрею отпуск после ранения — так ничего бы и не было, но все равно дезертировать нельзя.
Я помню, читал, и все мне нравилось, и вдруг под конец возникло глухое раздражение, злоба буквально. Дидактика полезла под конец (мне так показалось) — как поступать выйдет плохо, а как правильно и выйдет хорошо, хоть и чувства. И вот преступишь долг свой перед Родиной и государством — и себя погубишь, и жену погубишь, и сына погубишь. И когда дезертир ночью на охотничьей заимке завыл в унисон волку в лесу — вот эта лобовая метафора меня просто отшибла.
Но это мое мнение, вы читайте, большинству очень понравилось. Видите ли, я не переношу сопливую сентиментальность только в том случае, когда она ханжески притворяется реализмом.
Еще один народник — эх, жаль много о нем сказать не успеем, прекрасный был бы писатель, если бы не спился и не продался — Виль Липатов. У него когда-то был гениальный рассказ «Мистер-Твистер». Сейчас в Интернете все есть — прочтите, не пожалеете.
Вот этот Виль Липатов в том же, помнится, 70-м году… Вообще 70-й, если итожить — жутко интересный и показательный был год: будто линия перегиба на листе бумаги, масса таких показательных, иных совсем, не как в 60-е годы, произведений. Темы сменились, настроение сменилось, и даже эстетика сменилась — да еще как!
В 70-м Липатов публикует повесть «Серая мышь» — о пьянстве. Достоевский тоже сначала начал писать роман «Пьяненькие», пока Раскольников старушку не зарубил… Но в наши времена — в жизни пришибают чем ни попадя налево и направо, но в литературе это как-то не комильфо. У Липатова пьют без таких криминальных последствий, но зато масштаб, если подумать — страна спивается, народ наш совейский спивается. Шо да — то да.
Затронув тему сентиментальности — Борис Васильев, который в конце самом 60-х прославился, «А зори здесь тихие», тему свою продолжал в своем же ключе, печатался в «Юности», повесть «В списках не значился» и другие. Там любовь, смерть, казематы темные Брестской крепости уже пустой, юный лейтенант и юная девушка. Вот за что мир полюбил после Первой Мировой Хемингуэя и других! За правду! За нетерпимость ко лжи! Вы представьте себе: воды нет, жажда мучит, лето, бетонные темные подвалы, потные, грязные, неделями, — здесь любовь настолько не куртуазна, ну вы куда от физиологии денетесь, от тел своих со всеми их делами и подробностями, ну оставьте вы свою эстетику наших Ромео и Джульетты, там кружева, духи, чистый воздух и свежее белье — а здесь, где все иначе, и чувства оформлены иначе, врать не надо, уберите вашу условную конфетную сиропность из пейзажа с реальными тягостями войны.
Ну что. Необходимо еще упомянуть прекрасный, блестящий роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», но о нем надо серьезнее говорить в рамках советской военной прозы.
И раз 70-е — упомянем «Разные дни войны» Константина Симонова, беспрецедентные в советской традиции дневники, где первый том — «1941», а второй — остальные годы; где впервые говорилось об ужасе и панике отступлений, где впервые прозвучало слово «драп», где впервые говорит вслух генерал Петров: «Почему вечно немцы на высотке — а мы внизу в болоте?» и так далее. Их очень читали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: