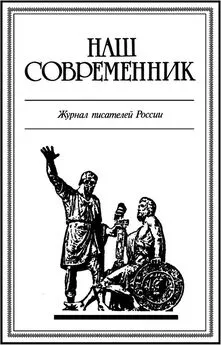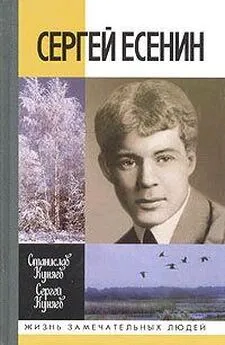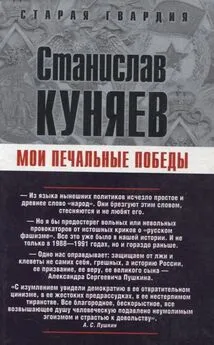Станислав Куняев - К предательству таинственная страсть...
- Название:К предательству таинственная страсть...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наш современник,2019 - №№ 11,12, 2020 - №№ 1,2,3
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Куняев - К предательству таинственная страсть... краткое содержание
К предательству таинственная страсть... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этому земному Богу Слуцкого свойственны и “всевидящее око”, и “всепроницающий взгляд” — всё забытое, ветхозаветное и вдруг всплывшее из доисторической вавилонской бездны.
Интересно, что Сталин в стихах русских поэтов той же эпохи (Исаковский, Твардовский и др.) изображён как понятный людям земной человек, как суровый, но справедливый отец, как народная надежда, в крайнем случае, как полководец и вождь, и даже злодей или диктатор. Но никогда — как Бог. Такое случалось лишь с поэтами, вышедшими из “хаоса иудейского”, из еврейской среды, сохранившей в своей генетической памяти все ветхозаветные мифы об отношениях их предков с грозным племенным божеством Яхве.
Страстное желание Слуцкого “стоять, как все” в эпоху уравниловки было тесно увязано с не менее страстным желанием быть “русско-советским” поэтом. Эта раздвоенность в эпоху “оттепели” вызывала недоумение и у “левых”, и у “правых”, и у русских, и у евреев. Вспоминается злая, но точная эпиграмма не какого-нибудь “русофила”, а поэта-авангардиста Всеволода Некрасова: “Ты еврейский или русский? — Я еврейский русский. — Ты советский или Слуцкий? — Я советский Слуцкий…”Начало 60-х годов.
Но вспоминается и такая сцена. На свадьбе у Игоря Шкляревского собрались мы все: Слуцкий, Межиров, Кожинов, я и многие другие литераторы — и русские, и евреи. Вадим Кожинов, немного захмелевший, произнося тост, забыв о женихе с невестой, ни с того ни с сего вдруг выпалил:
— А вот до революции у евреев, живших в Белоруссии и на Украине, была своя национальная культура, весьма значительная…
Слуцкий вспыхнул, усы у него задёргались, и, перебивая Кожинова, он заявил:
— Ну, обратно в гетто вы нас не загоните! — Сказал с убеждённостью человека, решившего для себя русско-еврейский вопрос окончательно.
Я помню, как в начале шестидесятых годов в одном из провинциальных городков, в доме, где собралась еврейская либеральная интеллигенция, меня, приехавшего из столицы, попросили прочитать что-нибудь столичное, запрещённое, сенсационное. Я прочитал стихотворение об “особой расе”. Помню, как слушатели втянули головы в плечи, как наступила в комнате недоумённая тишина, словно бы я совершил какой-то неприличный поступок.
— Это же Слуцкий! — недоумевая и озираясь вокруг, сказал я. Ответом было молчание. Такой Слуцкий, нарушивший в то время своей уже не комиссарской, а пророческой ветхозаветной смелостью (было в нём нечто от ассимилированного древнего пророка и богоборца одновременно) табу и запреты на рискованную тему, был этой местечково-советской интеллигенции неприятен, даже опасен.
В книге “Теперь Освенцим часто снится мне”среди глубоко личных стихотворений о своём еврействе в знаменитом стихотворении Слуцкого “Про евреев” одно слово заменено другим, но таким, что я глазам своим не поверил: неужели сам Слуцкий исправил строку “ношу в себе, как заразу, // эту особую расу” (вариант 1960 года) на ошеломившее меня: “ношу в себе, как заразу, // эту проклятую расу”? Неужели сам Слуцкий совершил это? Но почему? Постепенно осмыслив случившееся, я пришёл к следующему выводу: Слуцкому было мало осознать себя советским поэтом. Ему мало было убедить себя в том, что он способен слиться в эпоху уравниловки с простонародьем, “стоять, как все”, одеться в “ватно-стёганое”, принять как должное жизнь в “очередях” — в широком смысле слова… Всего этого ему как поэту было мало. Но для того, чтобы воздействовать на русского читателя, чтобы органически вписаться в русское лоно, чтобы совершить немыслимое — почувствовать себя душою русским — неужели ради этого он решился стать своеобразным выкрестом?
Но из стихов, опубликованных в книге “Теперь Освенцим часто снится мне”, составленных близким другом Слуцкого с довоенных времён Петром Герелиром, видно, как мучительно переходит поэт из мира, говорящего на идише, в стихию не просто русского языка, а русских чувств, и каких усилий стоило ему почувствовать себя русским поэтом. И тем не менее, Слуцкий пошёл дальше “русскоязычия”, решившись на отчаянную попытку раствориться в мире русской душевной жизни… И вот что из этого вышло:
Я не могу доверить переводу
своих стихов жестокую свободу,
и потому пойду в огонь и воду,
но стану ведом русскому народу.
Александр Межиров попытался пробраться к русской душе через привязанность к няне — “Родина, моя Россия, // няня, Дуня, Евдокия” — и через познание русской поэзии: “Был русским плоть от плоти, по жизни, по словам, когда стихи прочтёшь — понятней станет вам”. Слуцкий же приказывал себе быть русским во что бы то ни стало, несмотря на местечковость, господствовавшую в его харьковской семье:
Я инородец, я не иноверец,
не старожил? Ну что же — новосёл.
Я, как из веры переходят в ересь,
отчаянно в Россию перешёл.
Однако веру сменить легче, нежели душу, и Слуцкий, чувствуя это, хватается за все обстоятельства, способствующие его “обрусению”:
У меня ещё дед был учителем русского языка!
……………………………………………………..
Родословие — не простые слова.
Но вопросов о происхождении я не объеду.
От Толстого происхожу, ото Льва,
Через деда…
Но мало того: он, чтобы “перейти в Россию”, чтобы стать русским поэтом, посягнул на самое святое, чем жила веками вся еврейская местечковая диаспора, — на культ крови, который был священен для евреев со времён вавилонского пленения:
…стихи, что с детства я на память знаю,
важней крови, той, что во мне течёт.
Слуцкий не был первым из литературной среды в осмыслении “голоса крови”. В книге “Свет двуединый”, изданной в России в 1996 году с подзаголовком “Евреи и Россия в современной поэзии” поэт и переводчик Аркадий Штейнберг с неменьшим бесстрашием вглядывался во тьму времён:
Не кровь отцов, не желчь безвестных дедов,
переправлявших камни через Нил,
сильны во мне: иной воды изведав,
я каплю Волги в жилах сохранил.
И русским хлебом вскормленный сыздетства,
с младых ногтей в себя его вобрав,
я принял выморочное наследство
кольцовских нив и пушкинских дубрав.
Мысль глубокая, хотя и косноязычно изложенная, я уж промолчу о том, что “кольцовские нивы” и “пушкинские дубравы” Штейнберг называет “выморочным наследством”. Слуцкий, конечно же, владел русским языком гораздо с большей естественностью, нежели Штейнберг. И чувствуя это, он от стихотворения к стихотворению искал выход из своего двусмысленного положения:
На русскую землю права мои невелики,
но русское небо никто у меня не отнимет.
А тучи кочуют, как будто проходят полки.
И каждое облачко приголубит, обнимет.
И если неумолима родимая эта земля,
всё роет окопы, могилы глубокие роет,
то русское небо, дождём золотым пыля,
простит и порадует, снова простит и прикроет.
Я приподнимаюсь и по золотому лучу
с холодной земли на горячее небо лечу…
Интервал:
Закладка: