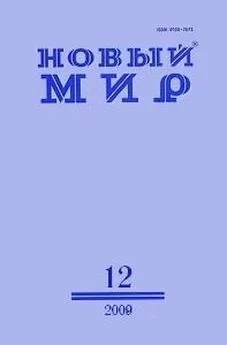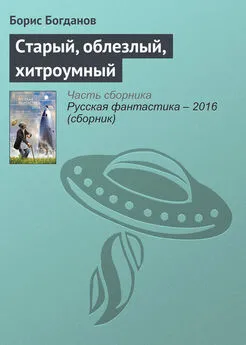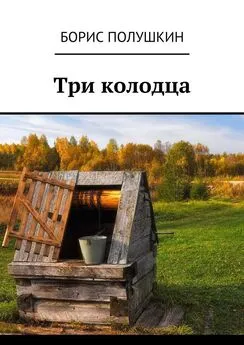Борис Черных - Старые колодцы
- Название:Старые колодцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3
- Год:2007
- Город:2007
- ISBN:978-5-9739-0107-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Черных - Старые колодцы краткое содержание
Российская очеркистика второй половины XX века сохраняла верность традициям дореволюционной очеркистики. Восстановление этих традиций стало явью благодаря произведениям Валентина Овечкина, Владимира Тендрякова, Гавриила Троепольского и других. Один «Моздокский базар» Василия Белова многого стоит.
Борис Черных, хотя он младше своих предшественников в жанре очерка, не погнушался пойти в русле лучших заветов отечественной школы публицистики. Самое главное, он везде (и в «Старых колодцах» и во всех своих очерках) сохраняет героя. И любовь к герою. Черных предпочитает писать не о проблемах, а о человеке. И с помощью своих героев внушают нам ту веру, не побоимся сказать высоким слогом, в Россию, в ее настоящее и будущее, в русский мир.
Старые колодцы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конечно, факты фактам рознь. В устах твердого, хозяйственного мужика обыденные цифры и случаи тотчас обрастают особой достоверностью, ведущей читателя к обобщениям. А в устах уютной старушки воспоминальный дым предстает поэзией. Как быть, простите, с поэзией? Как быть с Ярославной, плачущей на крепостном валу?
Весной прошлого года успел я переговорить в Евгеньевке с Филиппом Андреевичем Жигачевым. Не скрою, прокрался и в мужскую беседу эмоциональный лад. Жигачев вспоминал далекие двадцатые годы и краски находил самоцветные не только для описания себя, но и для родины своей – Витебщины, и для Евгеньевки. Покидая отроческие места, взял молодой Жигачев с огорода горсть земли и потом, в нескончаемых мытарствах, сохранил ее. Мы сидели за круглым столом, перед нами во флаконе стояла пепельная эта земля с Витебщины; и горечь сушила рот старику еще и потому, что через десять дней предстояло второе, не менее тягостное прощание – с Евгеньевкой. Два прощания закольцевали судьбу старика, он крепился изо всех сил, чтобы не разрыдаться.
Дорога в Сибирь лежала через Москву. Молодой Жигачев был наслышан о столице, книжки – грамотешка позволяла – читал взахлеб, отца тормошил: «Задержимся в Москве?!» А отец боялся деньги растратить, вырученные от продажи скарба. Однако пересадка предстояла в Москве, отец с сыном пошли прогуляться. Нэп оживил торговые ряды на Тверской и на Кузнечном мосту – глаза разбегались. В магазине «Братьев Клыпиных» (вывеска старинная сохранилась, хотя магазин-то был уже мосторговский) дрогнуло сердце и у отца. Дело в том, что сам он, будучи мало-мальски грамотным в музыке, выучил сыновей петь и играть на тульской гармошке, взятой на вечерок-другой у соседа. И вот в витрине роскошного магазина не существующих уже «Братьев Клыпиных» старший Жигачев увидел сказочной красоты инструмент – меха небесно-голубые чуть раздвинуты, а планки переливаются черным перламутром. Полный строй у гармони – ряд есть минорный, есть и мажорный, а ж о р н ы м назвал его рассказчик; но клавиши устроены, как европейцы любят, поет, когда сжимаешь меха. А неженатый парень Филя Жигач знал толк, когда надо рвануть – именно рвануть – меха. Отец и сын уговорили мастера при магазине перевернуть клавиши, мастер начал и кончил работу через пару часов. Явился в Евгеньевку гармонист и певун.
Филипп Андреевич любил на пару с Иваном, младшим братом, петь простонародное:
Горит свеча, в вагоне тихо,
Солдаты все спокойно спят,
– классика времен Первой мировой войны.
У Ивана был бас, а Филипп пел тенором, готовым оборваться как струна. Он и сейчас пробовал показать пыл, но Мария Васильевна, жена, откровенно рассмеялась:
– Не тот нынче голос у Жигача, ох, не тот! Выстарился.
Филипп Андреевич сконфуженно опустил седую голову, потом отвернулся и смотрел в окно. За окном дремал на припеке пес, мычала корова и дымила летняя кухня...
Филипп Андреевич Жигачев и Роман Сидорович Гниденко, сосед и старожил Евгеньевки, оба в голос говорили мне:
– Ушел Колчак, мы кумекали – сами царствовать будем. Жить думали и царствовать. Нам ниче не надо было – ни приказа, ни указа. Земля есть, вода есть – воды-то с верхом в Илирке. Здоровье? На здоровье не жаловались. Господ – нету. Че надо ишо мужику? Ниче не надо...
– Собрались сообща и говорим: «Межи перепашем или не перепашем?» Решили – не перепашем. А лес беречь будем? Лес беречь будем, Илирку беречь будем, соседей уважать будем. Праздник настанет – гулять будем. Нет праздника – работать на поле будем. Кто захворает – вызволим из нищеты; не дай Бог, помрет – детей голодными не оставим...
Просто? Просто-то просто, но и сложно...
Здесь, чтобы не оторваться от документальной основы, попытаемся восстановить хронику Тулунского уезда описываемой нами эпохи с помощью документов того же Архива и публикаций.
Глава вторая
Хроника жизни Тулунского уезда
Первое впечатление, когда читаешь о тех далеких годах, поражает своей пестротой. Эту пестроту хорошо, даже талантливо передал в составленном докладе Иркутскому губревкому председатель ревкома одной из местных волостей З. И. Петров, суть его доклада не расходится с рассказами старожилов – тех, что мы успели услышать, и тех, кого услышим позже. Вот что Петров писал при керосиновой лампе:
«1919 год. Власть колчаковских начальников, управляющих, старших и младших милиционеров, земских председателей, взяток, запугиваний, порок и проч. мудрости административно-демократического строя [30]. Наряду с этим большевистская агитация, укрывание дезертиров, уклонение от воинской повинности... В общем, серенькие деревенские будни и напряженно-нервное настроение.
Декабрь месяц. Упорные слухи о падении Омска, о ликвидации колчаковской армии, о восстаниях в Иркутске и в других местах и, наконец, появление из Зимы двух делегатов-алатырей. Алатыри разоружают милицию, вооружают земцев, собирают собрание и сообщают, что власть Колчака пала и что власть теперь мы, истинные народные избранники: от эсеров, от эсдеков (имена их многи)...
Поддярживай нас, товарищи.
Мужики, почесавши загривок, спрашивают: «А Советская власть?»
Мы, отвечают делегаты, мы тоже Советская власть.
А нельзя ли без вас, спрашивают мужики. Но делегатам надо срочно куда-то уезжать, и они ничего не ответили на последний вопрос.
В это время из Нижнеудинска Татаринов и Кравцов отбивают телеграмму: «Долой Колчака, долой войну, борьба с большевиками»...
Мужики предлагают поместить Татаринова с Кравцовым в цирк. Один говорит: «Никогда, паря, не видал таких борцов...»
Большинство решает дело проще: «Долой войну, долой Колчака, долой Кравцова и Татарникова, да здравствует Советская власть».
А после этого появляются «коммунисты» из... торгово-промышленных товарищей спекулянтов, затем ходившие и ранее по-уголовному старец с бородой, бежавший из-за Урала от коммунистов, и мальчик 14-ти по 15 году, и заявляют: «Мы партия коммунистов, а вы – контрреволюционное серье, айда к нам под контроль». Мужики онемели и разошлись по домам.
Вдруг, как снег на голову, отряд Каппеля. Партия коммунистов бежит, а мужиков грабят. Отряд Каппеля улетучивается, все возвращается назад, контрреволюционное серье считает на пальцах убытки. После это же серье снабжает Красную Армию подводами, фуражом и довольствием... Спрашивается, как быть серью?..»
Заканчивается этот удивительный репортаж жалобой вполне конкретной: «Мужики устали... Отсутствие указаний, инструкций, законоположений ставит работу в самые тяжелые условия. Бестолковое вмешательство отдельных воинских частей также ставит Ревком в ненормальное положение. Отсутствие плана заготовок, противоречивые требования и наряды, отсутствие твердых цен на продукты и рабочие руки, отсутствие денежных средств сбивает с толку и мешает наладить продовольственное дело».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
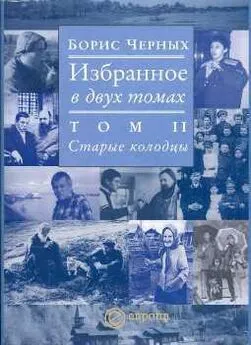

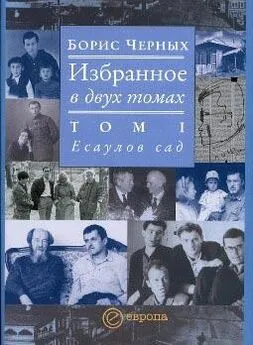
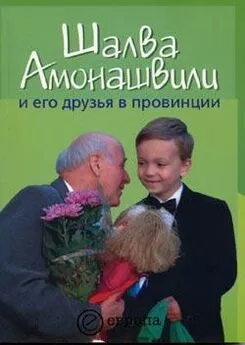

![Борис Екимов - Старый да малый [сборник]](/books/1081693/boris-ekimov-staryj-da-malyj-sbornik.webp)