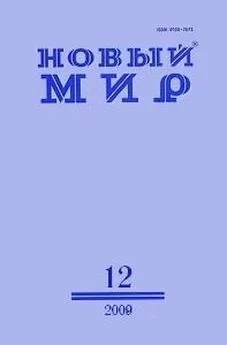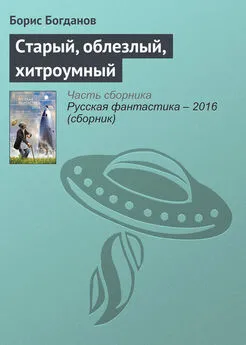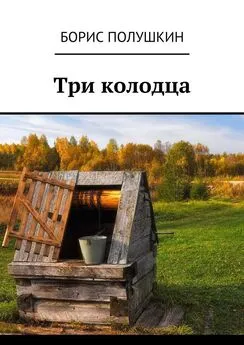Борис Черных - Старые колодцы
- Название:Старые колодцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3
- Год:2007
- Город:2007
- ISBN:978-5-9739-0107-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Черных - Старые колодцы краткое содержание
Российская очеркистика второй половины XX века сохраняла верность традициям дореволюционной очеркистики. Восстановление этих традиций стало явью благодаря произведениям Валентина Овечкина, Владимира Тендрякова, Гавриила Троепольского и других. Один «Моздокский базар» Василия Белова многого стоит.
Борис Черных, хотя он младше своих предшественников в жанре очерка, не погнушался пойти в русле лучших заветов отечественной школы публицистики. Самое главное, он везде (и в «Старых колодцах» и во всех своих очерках) сохраняет героя. И любовь к герою. Черных предпочитает писать не о проблемах, а о человеке. И с помощью своих героев внушают нам ту веру, не побоимся сказать высоким слогом, в Россию, в ее настоящее и будущее, в русский мир.
Старые колодцы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что и говорить, сердитое положение, но не настолько, чтобы предаться отчаянию. Переселенцы, хлынувшие через несколько месяцев из губерний, охваченных голодом, внушили тулунцам, как ни странно, уверенность в себе. Оно и понятно – раз ищут у них спасения люди из далеких российских губерний, значит, не так худо дела обстоят в Сибири. По всему уезду застучали топоры. Рязанцы и калужане, воронежцы и туляки строили полуземлянки и шалаши, изыскивали места для поселений и рыли колодцы.
В продовольственном бюллетене от 12 февраля 1920 года, утвержденном членом Сибревкома и замнаркома продовольствия Н. Фрумкиным, можно прочесть о том, что Тулунскому уезду назначено по распределению 40 (сорок) плугов и 700 кожаных ремней. Вскоре создается уездная комиссия, которая занялась организацией восстановления крестьянских хозяйств.
В начале 20-го года село Тулун вдруг подняло голос за автономию, за независимость от Нижнеудинска. Думаю, если бы совсем невмоготу было мужику в то время, он бы едва ли занялся столь неактуальным на первый взгляд вопросом. Дело поставили широко: по инициативе тулунского (тогда писали и говорили «тулуновского») революционного комитета представители пятнадцати волостей собрались на съезд общественно-демократических организаций. Вопрос подняли покрепче, чем думали до съезда, в повестке дня он сформулирован так: «2. О перенесении в село Тулун уездного центра из Нижнеудинска».
Ни больше ни меньше – задумали лишить Нижнеудинск уездных регалий.
Неизвестный теперь для потомков тов. Виноградов «доложил (съезду. – Б.Ч .), что нижнеудинские чиновники противились перенесению уездного центра в Тулун по соображениям, не заслуживающим внимания. Они указывают на отсутствие в Тулуне каменного здания под казначейство».
Представители пятнадцати волостей, не долго думая, тут же решили употребить под казначейство «прекрасное здание винного склада».
Георгий Виноградов предложил участникам съезда принять резолюцию: «Обсудив вопрос о перенесении уездного центра в село Тулун, и, принимая во внимание центральное географическое, экономическое и культурное положение Тулуна, съезд постановляет: немедленно перенести резиденцию уезда из города Нижнеудинска в село Тулун с переименованием последнего в город, с оставлением земельных наделов за гражданами села Тулун.
Резолюция принята 27 голосами против одного, воздержавшихся не оказалось.
Из протокола заседания съезда понятно, что вопрос о перенесении центра в Тулун не раз обсуждался (в протоколе сказано громче – «дебатировался») на уездных земских собраниях. Оказывается, еще в 1890 году вопрос этот был «разрешен в положительном смысле, но нижнеудинские чиновники были против перенесения центра в Тулун из-за своих лично-эгоистических интересов».
Вот такое историческое – без тени иронии пишу эти слова – решение приняли тулунчане в 1920 году. Сама послереволюционная обстановка способствовала ниспровержению устоявшихся канонов и высвобождению инициативы рядовых граждан, государственному творчеству масс. Самостийное решение съезда представителей притулунских волостей признала Москва [31].
В том же, двадцатом году столица изыскала средства и выделила 2 615 170 рублей на открытие крестьянской академии на территории Тулунской опытной станции, задействованной в 1913 году. Не удивляйтесь цифре 2 615 170, то были годы денежной инфляции. Тогда же решили построить и оборудовать реальное училище и учительскую семинарию.
Вообще Тулун, приобретя права гражданства, приободрился и расправил плечи. К сожалению, скоро его постигла беда.
Михаил Моценок, бывший уездный комсомольский работник, вспоминает на страницах альманаха «Ангара»:
«Вырос Тулун в годы строительства Великой Сибирской Магистрали. Железная дорога проходила близ Тулуна. Подрядчики везли лес, хлеб. И не только... Из Тулуна в Братск пролег большак. У Братска действовали два металлургических завода – Лучихинский и Николаевский. Их тогда называли железоделательными. До революции они принадлежали акционерному обществу „Столль и компания“. На заводах плавили не только чугун и сталь, но и катали рельсы. Рельсы везли гужом и сплавляли по Ангаре.
В центре Тулуна высилась паровая мельница с электростанцией. Уезд хлебный, земли богатые. С Украины сюда переселялись целыми семьями, а выращивать пшеницу украинцы мастера...
Октябрь начисто вымел купечество из Тулуна [32]. Летом 1922 года Тулун горел. В сильный ветреный день занялась огнем мельница, и город выгорел, осталась окраина. Школы перевели в село Куйтун. Уездные организации и учреждения ютились в небольших домах...
Впрочем, мы слишком спешим, минуя годы. К рассказу Михаила Моценка вернемся позже, а пока полистаем архивные дела.
Экономические и другие вопросы, вставшие в полный рост, попадали в повестку дня уездных организаций и совещаний. Так, например, съезд Советов Тулунской волости, собравшийся после пожара в Тулуне, слушал осенью 1922 года:
1. О текущем моменте.
2. О волостном земотделе.
3. О лесозаготовках в зиму...
4. О ходатайстве перед вышестоящими органами о понижении разряда урожайности.
На съезде присутствовали представители наших сел – малограмотный Тимофей Гультяев, 24 лет от роду, Павел Долгих от Афанасьева, Трофим Котов, Андрей Огнев (родной брат Александры Ивановны Огневой, вернувшийся из армии 25 лет), Антон Непомнящих; от Заусаева – Евстафий Дьячков (деверь Елены Николаевны Дьячковой, 23 лет), Николай Татаринов и Петр Дьячков (муж Елены Николаевны, 26 лет от роду). Все – с правом решающего голоса, молодые, но матерые мужики, прошедшие школу жизни. Не всем им повезло в дальнейшем, как уже не повезло Михаилу Валтусову из Никитаева, другу Трофима Котова. Валтусов был лишен права избирать и быть избранным в Советы. А пока они ходят по Тулуну и чувствуют себя уверенно, как законодатели. Собрались и на экскурсию (тогда слова такого в обиходе не было) к реке Ии. Через Ию парни из трудармейцев строили железнодорожный мост, действующий и поныне.
А вообще занять чем-нибудь молодежь тогда в Тулуне, по свидетельству того же Михаила Моценка, было нечем. Служили в конторах и в пожарной команде (не спасшей Тулун от огня), работали у кустарей, шили сапоги, катали валенки, варили мыло. Очень немногие умели пробиться на железную дорогу, к путейцам.
Симптоматично – тогда по всей стране прошла эпидемия пожаров. Дело доходило до курьезов. Так, в Тулуне сгорело еврейское кладбище.
Вблизи города имелись природные лесные дачи Никитаевская и Манутская, числились они за государственным лесничеством. Уездный исполнительный комитет («Уисполком») летом 1923 года зафиксировал в письме:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
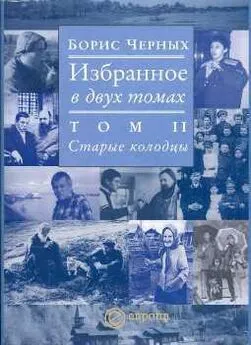

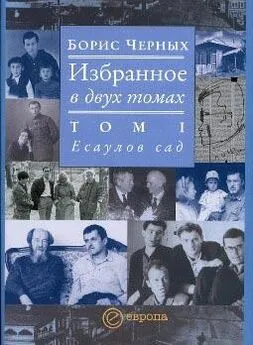
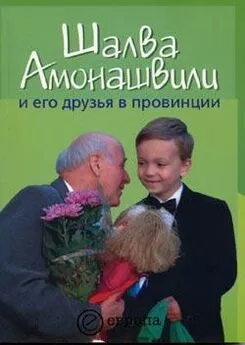

![Борис Екимов - Старый да малый [сборник]](/books/1081693/boris-ekimov-staryj-da-malyj-sbornik.webp)