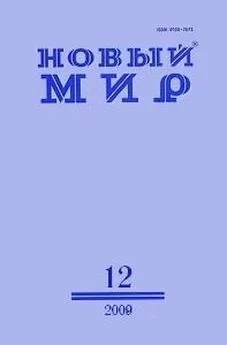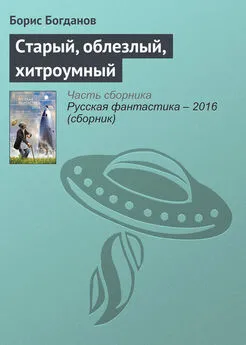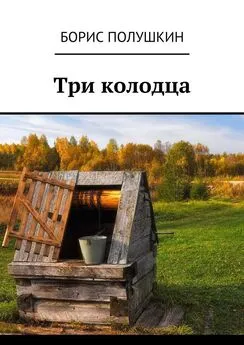Борис Черных - Старые колодцы
- Название:Старые колодцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3
- Год:2007
- Город:2007
- ISBN:978-5-9739-0107-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Черных - Старые колодцы краткое содержание
Российская очеркистика второй половины XX века сохраняла верность традициям дореволюционной очеркистики. Восстановление этих традиций стало явью благодаря произведениям Валентина Овечкина, Владимира Тендрякова, Гавриила Троепольского и других. Один «Моздокский базар» Василия Белова многого стоит.
Борис Черных, хотя он младше своих предшественников в жанре очерка, не погнушался пойти в русле лучших заветов отечественной школы публицистики. Самое главное, он везде (и в «Старых колодцах» и во всех своих очерках) сохраняет героя. И любовь к герою. Черных предпочитает писать не о проблемах, а о человеке. И с помощью своих героев внушают нам ту веру, не побоимся сказать высоким слогом, в Россию, в ее настоящее и будущее, в русский мир.
Старые колодцы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Намерен я обговорить эти вопросы немедленно, ибо дальше чрезвычайные события (кровопролитная война с германским фашизмом) отодвинут актуальность поднимаемой проблематики.
Конечно, и в этой главе я буду стараться отвечать на эти вопросы как публицист, а не как теоретик.
Оставаясь на скромных позициях очеркиста, для начала позволю себе усомниться в собственной правомерности строить далеко идущие рассуждения и выводы на базе двух десятилетий из жизни четырех деревень Тулунского захолустья, на материале противоречивом. Чтобы как-то избавиться от сомнений, придется прибегнуть к испытанному методу – обратиться все же к помощи... теоретиков.
Осмыслению философского классического наследия Ленин посвятил годы мировой войны. Двадцать девятый том Полного Собрания Сочинений Ленина свидетельствует о многосторонности интересов вождя будущей Октябрьской революции и добросовестном познании открытого в сфере чистой науки – Логики. Фрагмент «К вопросу о диалектике» невелик по объему, но глубок [68], он-то и понадобится для подтверждения ортодоксальной правоты, выстраиваемой мной на столь малом фундаменте, как история четырех деревень.
«Раздвоение единого и познание противоречивых частей его... есть суть... диалектики... На эту сторону диалектики обычно обращают недостаточно внимания: тождество противоположностей берется как сумма примеров, а не как закон познания».
И далее: «Тождество противоположностей... есть признание (открытие) противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы (и духа и общества в том числе») [69].
Прервем цитирование этой мысли Ленина и обратимся еще раз к противоречивым, взаимоисключающим, противоположным тенденциям описываемой мной эпохи.
Вначале послушаем устные предания. Они трагичны. До сих пор в наших деревнях были редки случаи исключительного насилия, но с декретированием колхозного строя, в канун и после принятия Конституции СССР 1936 года, резко возрос репрессивный характер власти. Так, в Никитаеве жил старик по фамилии Емельяненко, приятель Федора Ломакина, советчик по всем пашенным делам: он знал лучшие сроки сева и начала уборочной, мог предсказать погоду на лето еще зимой. Был у Емельяненко допотопный календарик, он вел по нему счет ненастным дням в разные десятилетия своей жизни: считал он себя стариком, а было ему лишь за пятьдесят. Никитаевские председатели охотно выслушивали советы Петра Никодимыча, и редко когда он ошибался.
В годы Первой мировой войны Петр Емельяненко был ранен на полях Галиции и навсегда запомнил фамилию Лупекин: сослуживец Лупекин струсил в бою и предал своих немцам. В 1936 году на выборах в областной совет Емельяненко узнал, что сын означенного Лупекина баллотируется кандидатом в депутаты. Он и взвился, Емельяненко:
– За предательского последыша голосовать не желаю, такова моя воля.
Мужики посмеялись – нашел-де, чем народ удивить: и правда, раньше многие не ходили голосовать. В отдельные выборы в наших деревнях – по сводкам РИКа – не являлось до 20–25 процентов избирателей, кстати, и в Шерагуле подобная картина наблюдалась. Народ, до того не знавший, что такое представительная демократия, равнодушно, не враз принимал очередные выборы. Ну, выборы да выборы.
Вот и в 36-м году Емельяненко позволил себе вольготно отнестись к человеку, которого судил своим судом, вполне возможно, и неправедным: сын-то, Лупекин, почему должен за отца отвечать?
Но имел ли право (конституционное) никитаевский вольнодумец отказаться от голосования? – Конечно. Право избирать – право, а не обязанность. А имел ли право Емельяненко высказывать свои соображения о кандидате? – Безусловно, имел абсолютное право, впрочем, даже и обязан был предупредить односельчан о совершаемой – возможно – ошибке. Но к вечеру, к концу голосования, приехал на коне милиционер из Тулуна, арестовал мужика, и исчез правдолюбец навсегда и бесследно. Осталось у него пятеро внуков (сын-то его ранее погиб), внуки пухли от голода и влачили жалкое существование.
В 1937 году в том же Никитаеве взяли сразу восемь человек – по обвинению во вредительстве и шпионаже в пользу... Японии, а также и в противлении районным якобы властям. Среди них оказался Андрей Сопруненко. У Андрея Борисовича было пять родных братьев и две сестры, семья слыла дружной, спаянной. Приехали Сопруненки до революции еще с Украины, так не покладая рук и работали, жили в достатке, и в колхозе дела у них ладились. Но Андрей был несдержанным. В Гражданскую войну по горячности своей он увел у отца самовольно двух коней, взамен оставил старых кобыл, и воевал на стороне красных. Потом Борис Давидович женил Андрея на Шурочке Огневой, думая, что остепенил сына. Ан нет, Андрей, работая добросовестно на колхозной ниве, стал пылко требовать, чтоб и другие так же работали. На собраниях вставал, в пух критиковал правленцев и уполномоченных за очевидные промахи. И от него решили избавиться. И избавились... Ушел на Колыму об руку с Андреем Филат Пушкин и Костя Назаров ушел, и Николай Татарников, и Гриша Назаров, – все работящие мужики.
Ушло восемь, вернулся – через восемнадцать лет – один Андрей Борисович, изможденный, разбитый. Уходил – не знал и вернулся – тоже не знал, почему и зачем его взяли, зачем везли в пароходном трюме к бухте Нагаево, там гнали по тундре и, пригнав, велели самому строить колючий заплот и потом сидеть за проволокой.
А брали его мартовским вечером – постучался в окно посланец сельсоветский: «Дойди до конторы, срочное дело». Андрей Борисович телогрейку накинул – снег еще лежал, холодно было, в сельсовете сняли с него кожаный ремешок: «Арестован, допрыгался», – сказал милиционер.
Час минул, второй, Александра Ивановна, уложив детей спать, побежала к сельсовету, но дорогу ей преградил вооруженный человек: «Гуляй домой, тетка», – она пошла, спотыкаясь, домой, до утра глаз не сомкнула. Утром, в сумерках, собрала узелок, отрезала кусочек от печатки хозяйственного мыла, положила полотенце, в полотенце спрятала фотокарточку, на фотокарточке они всей семьей сидели рядышком, сама она и Андрей; дети – Валерка, старшенький, двадцать пятого года рождения, Валька, любимая отцова дочь, двадцать шестого года, девятилетняя Вера и семилетний Кеша. Незадолго снялись в Тулуне – ездили на рынок, и шальная воля привела их к засыпной будке фотографа.
Александру Ивановну снова не пустили к мужу, и она, передав узелок, ждала на улице – что же будет? Вскоре заскрипели розвальни, из сельсоветской двери выгнали на мороз восьмерых мужиков, усадили спиной друг к другу. Возница свистнул, и след кареты простыл. Восемь вдов стояли у прясла и крестили дорогу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
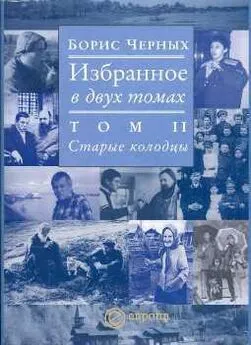

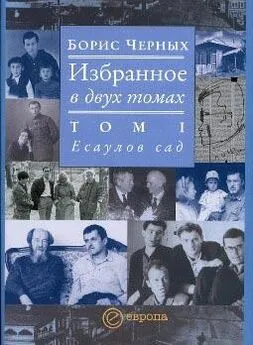
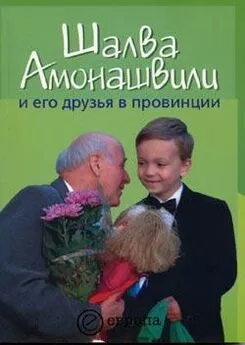

![Борис Екимов - Старый да малый [сборник]](/books/1081693/boris-ekimov-staryj-da-malyj-sbornik.webp)