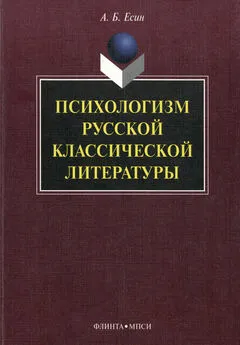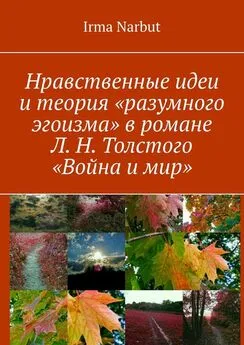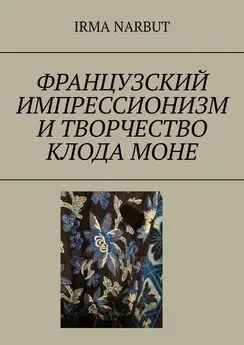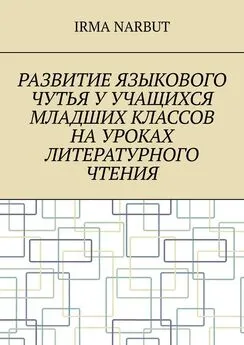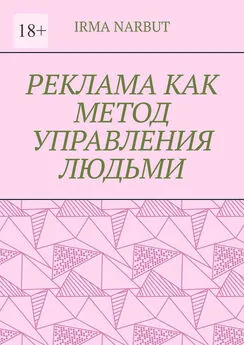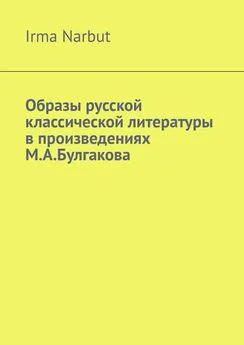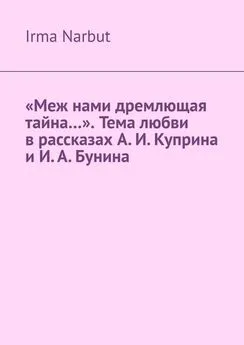Irma Narbut - Война и человек в русской классической литературе
- Название:Война и человек в русской классической литературе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005624628
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Irma Narbut - Война и человек в русской классической литературе краткое содержание
Война и человек в русской классической литературе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленах. Мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью… На шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал.
В груди его едва чернели
Две ранки, кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась; взоры
Бродили страшно, он шептал:
«Спасите, братцы. Тащат в горы.
Постойте – ранен генерал…
Не слышат…» Долго он стонал,
Но всё слабей, и понемногу
Затих и душу отдал богу.
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые…
И тихо плакали… Потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый,
Им вслед смотрел ‹я› недвижи́мый.
«Но слезы капали с ресниц, / Покрытых пылью» – невероятный реализм Лермонтова в психологических портретах воинов, и внутреннее состояние лирического героя по окончании битвы:
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли…
Лирический герой после боя нем и опустошен:
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.
Уже затихло всё; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух.
Напряженная, возвышенная стилистика стиха постепенно уступает место «прозаической» речи, сниженному стилю, обиходному разговорному языку. Лермонтов избегает открытой эмоциональности.
Что противопоставлено войне? Любовь, красота мироздания как божественного проявления…
Описанию кровопролитного сражения в стихотворении предшествуют посвящение любимой женщине и мирные картины жизни горцев:
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету ноговиц,
Их шапки, рукава худые.
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
Ужасам войны противопоставлена мирная жизнь, величественные пейзажи природы. Вслед за адом войны, в момент, когда приумолкли ее звуки, но остались страшные следы, когда «дым пороховой» туманом еще окутывает окрестные леса, глаза поэта-воина устремляются к «вечно гордой и спокойной» горной гряде, к остроконечной главе Казбека, к высокому небу:
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы – и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
Заключение стихотворения – философское размышление о войне. Поэт полемизирует с официозным воззрением на войну, с поверхностным ее изображением. Трагизм войны в том, что люди вынуждены убивать друг друга, вместо того, чтобы жить в мире и братстве. В финале стихотворения возникают размышления о бессмысленности «беспрестанной и напрасной» вражды, о том, что война и кровопролитие враждебны лучшему в человеческом естестве и «вечно гордой и спокойной» жизни природы: «И с грустью тайной и сердечной / Я думал: жалкий человек, / Чего он хочет!..».
Космизм Лермонтова-поэта-пророка – во взгляде «извне» на происходящее: враждебность человека природе, себе подобным и всему мирозданию.
Война задает вопрос: почему человек превращает прекрасную поэзию природы и жизни в безобразную прозу разрушения?
«…Началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие», — писал Лев Толстой в романе «Война и мир ». Что может противопоставить человек смерти, потере близких, страху, малодушию?
В оценке и в изображении войны Л. Толстой близок великому поэту. Как и Лермонтов в «Бородино», он рисует незаметных, рядовых участников сражений – истинных героев Отечества.
Писатель употребляет нравственные понятия и не говорит о явлениях социальных и экономических. Этими принципами оценки исторических событий, и в частности войны, определяются и методы ее изображения.
Как к оценке поступков отдельных людей, так и к оценке исторических событий Толстой подходит с критериями добра и зла. Развязывание войны он считает величайшим проявлением зла. Уже в рассказе «Набег» молодой автор пытался подойти к войне не только как свидетель и участник, живо рассказывающий о боях и походах, но и как мыслитель, задумывающийся над вопросами о сущности войны, о ее причинах и следствиях.
В вариантах «Набега» Толстой сделал признание: «Война всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев – воображение мое отказывалось следить за такими громадными действиями: я не понимал их, – а интересовал меня самый факт войны – убийство. Мне интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве». Так ставил вопрос писатель-гуманист, ибо живой человек есть «то, чему не может быть оценки, выше чего ничего нет».
Уже в ранних военных рассказах Толстого заметно его стремление поразмыслить над вопросом о том, что значит война не только для отдельного человека, а и для того или иного сообщества людей – семьи, народа, нации, государства. «Неужели, – пишет Толстой в рассказе „Набег“, – тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственнейшим выражением красоты и добра».
В вариантах к «Набегу» молодой писатель сделал попытку ответить на поставленные им вопросы. «Война? Какое непонятное явление в роде человеческом. Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? Внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым».
Дневник Толстого – участника Кавказской войны – и первые его произведения о ней говорят, что писатель размышлял о войнах справедливых (освободительных) и несправедливых (захватнических).Такое их различение отчетливо проводится писателем в его Севастопольских рассказах и в «Войне и мире.«Написанные в короткие перерывы между боями рассказ Толстого «Севастополь в декабре месяце» и потом «Севастополь в августе» потрясли читателей тем, что в них – впервые в литературе – война была изображена не с «казовой», парадной стороны, а «в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти». Севастопольские рассказы Толстого предваряют «Войну и мир» не только беспощадно-правдивым изображением военной страды, не только прославлением героизма народа и его армии, защищающих от иноземных захватчиков родную землю, но и тем, что в них во весь голос звучит протест против войны. «…Вопрос, не решенный дипломатами, – говорит писатель в рассказе «Севастополь в мае», – еще меньше решается порохом и кровью «…» Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: