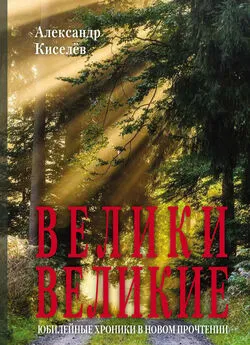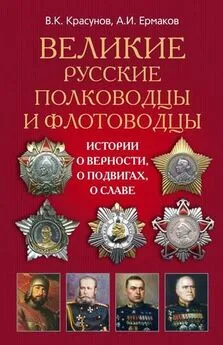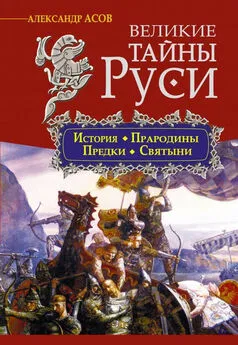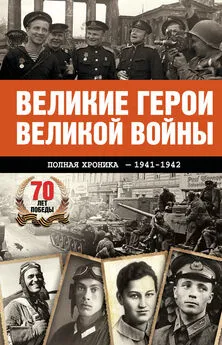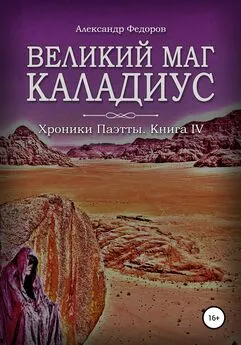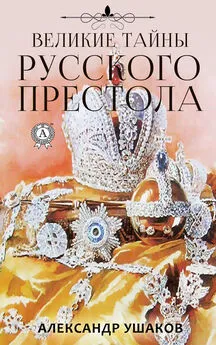Александр Киселев - Велики Великие. Юбилейные хроники в новом прочтении
- Название:Велики Великие. Юбилейные хроники в новом прочтении
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98604-803-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Киселев - Велики Великие. Юбилейные хроники в новом прочтении краткое содержание
А.Г. Киселёв в первой части своей книги обращается к творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, предлагая новое прочтение хрестоматийных строк, что интересно как с лингвистической, так и с литературоведческой точек зрения. Читатель может узнать много для себя интересного благодаря тонкому и бережному анализу поэтического наследия великих мастеров слова. Особенно важно это для подрастающего поколения, воспитывавшегося на либеральных подходах к отечественному литературному наследию.
Во второй части книги рассматриваются факты жизни политических деятелей, оставивших значительный след в истории России. Автор книги обращается к личностям таких государственных деятелей, как Александр I, Александр II, Николай II, П.А. Столыпин, А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущёв, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин. Прослеживается историческая значимость каждого политического деятеля, анализируются причины и следствия исторических событий, повлиявших на нашу страну, изменивших её уклад и даже строй. Ценность политических портретов в новизне их современнного изучения.
Книга А.Г. Киселёва носит просветительско-образовательный характер и предназначена прежде всего для школьников и учащейся молодёжи, так как предлагает оригинальное и доказательное прочтение страниц любимой классики и нашей отечественной истории. Поэтому книга может быть использована в качестве хрестоматии для познания истин в её реалиях. Очерки также будут интересны широкому кругу читателей.
Велики Великие. Юбилейные хроники в новом прочтении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Четырежды становится на краю гибели и Мцыри [28] Мцыри умер. Да, за пределами времени поэмы, но монолог – это его предсмертная исповедь.
. Но он, в отличие от Григория Печорина, не стал искать искушения, а слился в со-работничестве со Всевышним. Жив.
И что же из всего этого следует? А не то ли, что запредельно гениальные творения Лермонтова есть ничто иное, как воплощение воли Господа нашего напомнить устами своего избранника еще раз людям: их путь во Христе!
Оклеветанный молвой
Михаил Лермонтов – «поэт сверхчеловечества… поистине космического масштаба» (по выражению Д. Мережковского [29] Д. Мережковский. М.Ю. Лермонтов поэт сверхчеловечества. – М.: ЭКСМО, 2002.
) в земной жизни, как сильнейшая вибрация, рождал вокруг себя вихри. И не только святого толка. Словно щепотка соли на рану, раздражал он греховное общество. Страдал, исцеляя душу невыносимой болью. Как человек, пока не требовал его к священной жертве Апполон, в метанья суетного света он был погружен с головою. Что позволило многим, демократического покроя, исследователям, представлять его как глашатая революционно-настроенного поколения, которому, по словам А.И. Герцена, «совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России о казни Пестеля и коронации Николая I» [30] См.: В. Белинский. Собр. соч. в 9 т. – М.: Художественная литература, 1989.
.
В 1837 году, считается, произошел духовный переворот Лермонтова. Тогда свет увидел и услышал его произведение. «Смерть поэта» (Пушкина – А. К.).
Реквием по гению России, с которым Михаила Юрьевича в жизни судьба так и не свела, хотя народная молва тесно их сблизила, «призывом к революции» называли это стихотворение. Об этом пишет, кстати, известный советский писатель, один из лучших исследователей творчества Лермонтова, обладающий редким даром рассказчика, Ираклий Андронников [31] Ираклий Андронников. Лермонтов. Исследования и находки. – М.: Художественная литература», 1977.
. Между прочим, как оказалось, – не дальний родственник Михаила Юрьевича.
Не спорю, духовный переворот в развитии поэт пережил именно в ту пору. Стихотворение «Смерть поэта» начинается желчным обвинением миру и даже… Богу. Чем тебе не революционер! Но… Многие почему-то не хотят видеть, что Михаил Юрьевич бросает обвинения даже и самому Пушкину, несмотря на то, он его просто боготворил. Но боготворчество переходит, задумайтесь над этим, в смирение перед Промыслом. А Пушкинский образ перевоплощается в идеального христианина, что, подобно Богу – Сыну, смиренно несет свой крест в этом мире «печали и слез», ставшим таковыми не по вине Творца [32] Христианство и русская литература. – СПб.: Наука, 1999.
.
И прежний сняв венок – они венок терновый,
Увитый лаврами, надели на него…
А чего стоят строки, написанные чуть позже и присовокупленные к главному произведению:
Но есть и Божий суд, наперсники [33] Есть архаизм «перси» – груди. Наперсник – тот, кто находится у груди. Буквы «т» в этом слове нет, в отличие от «перст» – палец, от него слова наперсток, перстень.
разврата!
Здесь Лермонтов не просто христианин. Он раб Отца небесного, свободный от мирского бремени.
Вскоре появляются стихи, прямым образом связанные с художественным богослужением поэта. Это и «Ветка Палестины», и «Дума», и «Поэт», и самое светлое, самое тонкое его творение – «Выхожу один я на дорогу». Разумеется, это не весь список.
Земная жизнь нанесла ощутимый урон стоянию на камне христовой веры, вообще-то, обоим поэтическим гениям России. Пушкину даже больше. Но провиденью было угодно вернуть их в божественное лоно. Говорят, они ушли из жизни преждевременно. Но ведь так же «преждевременно» ушел из жизни земной и сам Христос. Они ушли, вернее, их взял обратно Господь, как только выполнили они свою миссию. Лермонтов стрелялся на дуэли и до Мартынова. Кстати, на той же самой Черной речке, что и Александр Сергеевич. Богу угодно было, чтобы тогда он остался жив. Он погибнет на Кавказе, мгновенно, не мучаясь, не разрядив своего пистолета.
У Пушкина случай другой. Он хотел убить Дантеса. Стрелял в него. Но поэту было даровано свыше право духовного примирения с врагом. «Требую, – сказал Александр Сергеевич перед кончиною П.А. Вяземскому, – не мстить за мою смерть. Прощаю ему (Дантесу – А.К.) и хочу умереть христианином» [34] А. Ринштейн. С секундантами и без… – М.: Грифон, 2010.
.
Воистину: люби врагов своих личных, гнушайся врагов Отечества, презирай врагов Божиих. И тогда, как пишет известный публицист, мой товарищ, академик Академии российский литературы Геннадий Пискарев [35] А. Киселев, Г. Пискарев, В. Злобин. Я с миром общаюсь по-русски. – М.: Природа и Человек, 2002.
:
Меркнет ада кромешное рвенье
И ликующий взгляд Сатаны.
Ваша гибель – не смерть —
Просветленье Для народа заблудшей страны…
Очищается болью Россия,
Слыша ангельский зов сыновей.
И объятья свои Мессия
Через них простирает над ней.
Внутри Кавказа
…Одной из больших загадок долгое время для меня являлась, прямо-таки, непомерная любовь к Лермонтову кавказцев, в частности, чеченцев. Мне даже было трудно представить то, что услышал я однажды из уст современного чеченского публициста Саида Лорсанукаева: «Мои предки, простые неграмотные пастухи, проживающие в селе Гехи, узнав об убийстве поэта, объявили по всей округе траур». А Гехи, между прочим, стоят на реке Валерик, той самой, на которой 11 июля 1840 года произошло небывалое сражение между чеченскими и русскими отрядами, в котором принимал непосредственное участие и поручик Тенгинского полка Лермонтов. Понятно, не на стороне Шамиля. Потом Лермонтов опишет эту схватку и будут там такие слова: «И два часа в струях потока, как звери, молча, с грудью грудь, сшибались, глухо падая на землю…Хотел воды я зачерпнуть, но мутная вода была тепла, была красна!» («Валерик»).
Так как же так: чеченцы, у которых (о чем писал сам же Михаил Юрьевич), «ненависть безмерна, как любовь», что «верна там дружба, но вернее мщенье», почитают, по сути дела, бойца «царского спецназа», словно своего национального гения. Конечно, тут можно принять во внимание, что Лермонтову принадлежит авторство названия Чечни гордым и красивым именем «Ичкерия», что он, по определению П. Антокольского, был внутри Кавказа, а не взглянул на него, как Пушкин также восхищенный горной страной с высоты: «Кавказ подо мною…» Но этого, думаю, мало, чтобы боготворить того, кто вступил на твою землю с оружием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: