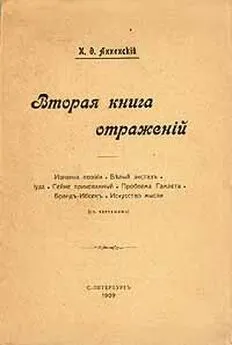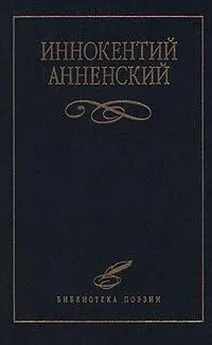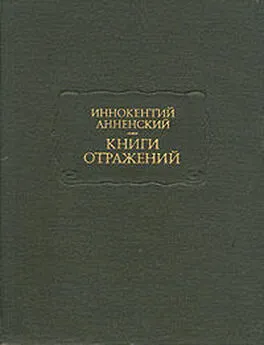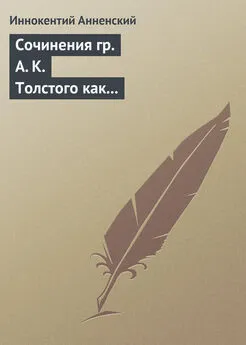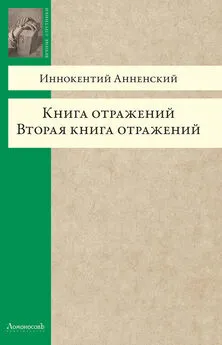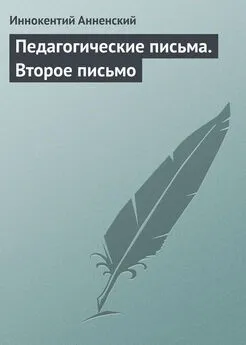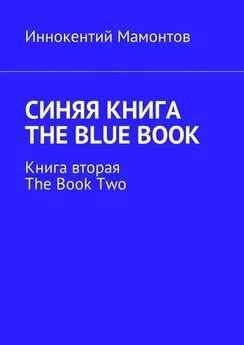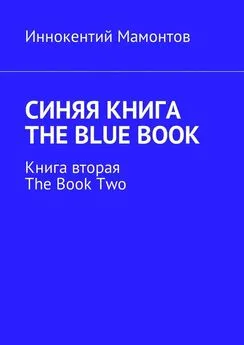Иннокентий Анненский - Вторая книга отражений
- Название:Вторая книга отражений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иннокентий Анненский - Вторая книга отражений краткое содержание
Вторая книга отражений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Их правда осуществляла право других людей на счастье. И только нетерпеливая мечта о счастье многих, если можно, так даже всех, и придавала смысл жизни и подвигу «тех девушек».
Но причем же счастье, если ищешь понять спутницу юродивого? Я скажу даже более: причем в ее испытании самая любовь к ближнему, все равно в форме ли мистической, какою выстрадали ее христиане, назвав любовью к богу, или в форме метафизической, какою признают ее социалисты, уча нас любить человечество.
Бедной Софи нечем было любить бога. Она жила одним изумлением, одной белой радостью небытия, о которой людям говорило только ее молчание. И, если экстаз придет увенчать ее вольное испытание, он будет беспредметен, — он будет только холоден и ослепительно бел. Самая идея спасения не была доступна ей, потому что она не знала вкуса в счастии, да и очищающая сила страдания, что сказала бы она сердцу, еще не познавшему сладости греха? Но что же остается, наконец, для оправдания этой маяты, этой бессмыслицы? В самом деле, скажите, зачем тряпка с маслицем ражему аскету и зачем искупление ребенку?
Есть еще одна возможность…
Может быть, в изысканном аскетизме этой незаметной, этой слившейся с массою подвижницы следует видеть лишь эстетизм высшего порядка?
Исканье исключительной, выше наслаждения ею и выше даже ее понимания стоящей Красоты?
На лице Софи рядом с изумлением, которое продолжало на нем оставаться, застыл восторг. И восторг этот она купила волей, той самой гордой волей, с которой раньше хотела бороться, как с началом всех человеческих зол.
Вспомните только, как загорелое лицо Софи сделалось решительно и даже смело. И точно. В основе искусства лежит как раз такое же, как и в жизни Софи, обоготворение невозможности и бессмыслицы. Поэт всегда исходит из непризнания жизни…
А что вы думаете? Может быть, эта девушка и в самом деле разрешила для себя задачу высшего из искусств, искусства жизни. Она побрезгала взять мрамор, чтобы сделать из него кружево, или жилу, чтобы заставить ее петь, она взяла материал самый упорный в мире и желанием вытравила из него все, на чем держалась его косность: она выжгла из него ласку и память.
Правда, она не успела кончить. Ее прервали. Она умерла. Но ведь это только деталь. Вслед за одной Софи придет другая, — и из той навозной жижи, по которой первая тащила своего грузного спутника, она, может быть, вылепит бога.
Нет… И этим, увы, не разрешится проблема белого экстаза. Нет искусства, и нет даже вообще искания красоты без единой хотя бы минуты торжества. Искусство всегда эгоистично, — и оно радуется самой живой и непосредственной радостью. Итак, осталась одна неразрешимость муки.
Социальный инстинкт требует от нас самоотречения, а совесть учит человека не уклоняться от страдания, чтобы оно не придавило соседа, пав на него двойной тяжестью.
Нет страдания великого и малого, достойного и недостойного, умного и неумного. Все страдания равно справедливы и священны.
Но если вольное страдание сознательно бесцельно, если оно ничего не ждет ни для себя, ни для других и ничего не выкупает, если оно просто страданье, оно удел только избранных.
И только избранные умирают молча, в одиноком изумлении.
ИУДА [52] ИУДА Впервые: 2 КО, с. 45–54. Автограф: ЦГАЛИ, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 147 («Новый Иуда») и ед. хр. 148 («Иуда Искариот и другие»). Ед. хр. 148 не имеет значительных разночтений с ед, хр. 147. Ед. хр. 146 — список статьи с поправками автора, не имеющий разночтений с опубликованным текстом статьи. Печатается по тексту книги. Цитаты проверены по изд.: Андреев Л. Собр. соч. [СПб. ], «Шиповник», 1909, т. 5.
ИУДА, НОВЫЙ СИМВОЛ
Леонид Андреев принадлежит к поколению, воспитанному на Достоевском. Не на том Достоевском, которого когда-то ссылали в Сибирь, а потом держал в кабале Катков [53] Катков — см. прим. 3, с. 593.
и на которого можно было сердиться за «Бесов» или «Дневник писателя», — а на другом, отошедшем ввысь и давно уже лучезарном поэте нашей совести.
Русский писатель, если только тянет его к себе бездна души, не может более уйти от обаяния карамазовщины, как некуда в пустом доме уйти мне от лунного лика и от своей черной тени, зараз и жуткой и комичной.
Описания у Леонида Андреева почти всегда кажутся экзотическими. Это зависит от его манеры писать и своеобразного отношения к жизни: природы.
Сцена тоже избаловала его своими эффектами. Но в сущности новому Иуде нечего делать ни с Иудеей, ни с Галилеей. Стоит пробежать несколько страниц из Юшкевича, чтобы почувствовать, что герой новой повести никогда не читал и Великой книги. [54] Стоит пробежать несколько страниц из Юшкевича… не читал и Великой книги. — Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927) — писатель, драматург, постоянный автор горьковских сборников «Знание». После Октября — в эмиграции. Великая книга — Библия.
Эта одинокая душа не знала вчерашнего дня, и если за нею были века, то они ушли целиком лишь на то, что жалобно стонущий ветер гонял ее по степям, как перекати-поле.
Тоска и стихийность Иуды слишком понятны и близки нам, чтобы искать их на Мертвом море, а силу для жизни он черпал не из обетования, а лишь из своей, т. е. нашей же, бог весть откуда налетевшей мечты, уродливо повлекшей за собою у Иуды предательство.
Я говорю, конечно, лишь о концепции Леонида Андреева, а не о библейском или историческом лице, о котором не стоит и рассуждать по поводу измышлений художника.
Но преступник, в котором слились мечтатель и мученик, поруганная и изуродованная жизнью любовь, с которой даже смерть не может снять личину ненависти; месть и предательство, которые неотступно молят о чуде и ненасытимо жаждут собственного посрамления, это ли не тот я, которого когда-то учил нас видеть и прощать в других Достоевский?
По природе своего таланта Леонид Андреев лишь изображает то, что Достоевский рассказывал, и внутренний человек заменен у него подобным ему, но внешним; но тем значительнее выходит в повести портрет Иуды:
Одна сторона его [лица] с черным, остро высматривающим глазом, была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На Другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромной от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью ни днем, он одинаково встречал и свет и тьму; но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную слепоту.
Вы видите, что это не столько живописное внешнее выражение, сколько моментальный снимок, сделанный с «внутреннего человека» в тот миг, когда процесс разлада дошел в нем до мучительного безобразия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: