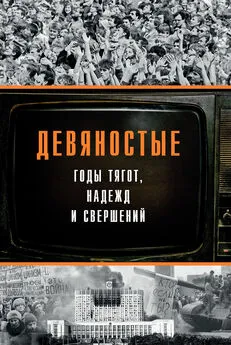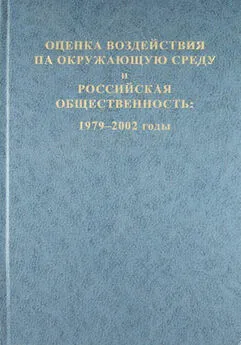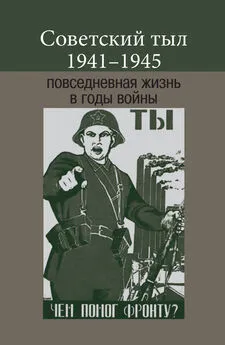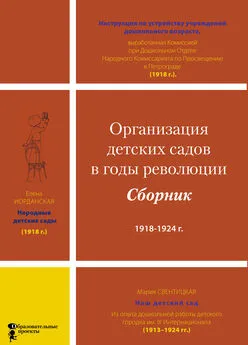Array Коллектив авторов - Девяностые – годы тягот, надежд и свершений
- Название:Девяностые – годы тягот, надежд и свершений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Челябинск, Москва
- ISBN:978-5-91603-714-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Девяностые – годы тягот, надежд и свершений краткое содержание
Сегодня эти беседы воспринимаются как документ эпохи – перед читателями разворачивается картина тех «лихих и славных» лет во всей их сложности и противоречивости. Собеседники Е. Г. Ясина откровенно рассказывают о проблемах, с которыми пришлось столкнуться реформаторам, о своих ошибках, разочарованиях и достижениях. Речь идет не только о том, что получило развитие в более благоприятных условиях нулевых годов, но и о том, что, напротив, стало постепенно демонтироваться. Однако фундамент, заложенный в девяностые, оказался столь прочным, что многими «наработками» тех лет мы пользуемся до сих пор, а иные еще ждут своего часа и способны дать новый толчок развитию страны.
Девяностые – годы тягот, надежд и свершений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я хочу все-таки акцентировать внимание на негодности этой системы. Плановая система была уже нежизнеспособна, но благодаря взлету цен на нефть она получила отсрочку. А потом, в 1985–1986 годах, цены упали в несколько раз. Раньше все проблемы в какой-то мере тушились нефтяным дождем. Затем же они обострились с новой силой. Да и раньше они нарастали. Неслучайно время от времени принимались «судьбоносные» постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР уже в годы «нефтяного изобилия», например в 1979 году, но все они оказывались неисполнимыми. Потому что они не касались сути системы, а отсюда эффект от таких указаний оказывался ничтожен. То есть проблема была системная, и без ее решения нельзя ограничиваться какими-то частными новациями на предприятиях, например по внедрению научно-технических инноваций – тема, очень волновавшая наше руководство уже в 1970-х годах. Тут и героические усилия не помогали, да и соглашались на них лишь единицы.
Н. БОЛТЯНСКАЯ: А были ли у нас тогда ученые, понимающие всю глубину проблем и думающие о серьезных изменениях системы?
Е. ЯСИН: Конечно, были. Не стану рассказывать об известных семинарах молодых ученых Москвы и Ленинграда, организованных Гайдаром и Чубайсом, где разбирались серьезные системные проблемы и нащупывались меры их решения. Были и грамотные экономисты более старших возрастов, но своими идеями они могли делиться только в узком кругу единомышленников или писать в стол. Вспоминается, кстати, «Новосибирский манифест» Татьяны Ивановны Заславской – ее доклад на семинаре в Новосибирске весной 1983 года. В нем, если коротко, было четко показано, причем в строго марксистской терминологии, что существующие в стране производственные отношения не соответствуют современному уровню развития производительных сил. И эти производственные отношения необходимо менять. Доклад был засекречен, но кто-то не сдал его обратно в «первый отдел» и доклад попал на Запад, был там опубликован. В результате директора института академика Абела Гезевича Аганбегяна и саму Заславскую чуть не исключили из КПСС. А наша пропаганда долго уверяла, что это фальшивка. Правда, к концу года, очевидно в связи с болезнью Андропова, шум как-то утих. Эта история свидетельствует о том, как сложно было высказать свою точку зрения. Но когда началась перестройка, такая возможность появилась, прежде всего в литературных «толстых» журналах. В «Новом мире», «Знамени», других подобных изданиях стали появляться первые статьи экономистов, вызвавшие широкую общественную дискуссию о состоянии отечественной экономики.
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Это было, так сказать, в широком общественном пространстве, а в научной среде?
Е. ЯСИН: Здесь перестройка также открыла большие возможности. Можно вспомнить много имен – и Анчишкина, и Яременко, и Примакова, и Петракова, и многих-многих других. В научной среде новые идеи необходимо было пробивать. Они встречали огромное сопротивление и ученых, привыкших к старым идеологическим клише, и видных хозяйственников, не желающих подрывать свое монопольное положение. Но все же общая картина необходимости перемен становилась очевидной многим к началу 1990-х годов. При этом нужно четко осознавать, что в мировой истории точно такой, как у нас, ситуации не было никогда. Потому что не было случая перехода от планового хозяйства к рыночному в столь большой и очень милитаризованной стране. Не было такого случая, поэтому, кого бы вы ни взяли, каким бы опытом он ни обладал, этот опыт был абсолютно бесполезен. Ничего точно не было известно. Поэтому мы оказались не готовы давать конкретные рекомендации. Но мысли о том, что дела идут не так, как надо, беспокоили многих.
Хочу тут вспомнить, что я написал книгу, которая называлась «Хозяйственные системы и радикальные реформы» и вышла в 1989 году, незадолго до того, как я перешел на работу в аппарат Совета Министров СССР. Я долго над ней мучился, раза четыре переписывал и пришел к следующему выводу. Мы имеем феномен очень интересный, а именно: каждая из этих двух систем – плановая и рыночная – внутренне очень логична. Даже плановая, особенно если брать ее вместе с репрессиями. И в то же время эти системы абсолютно несовместимы. Что бы вы ни стали делать, если начинаете что-то менять, обязательно получается хуже, потому что нарушается целостность, внутренняя согласованность. Я пришел к выводу, что единственный случай, когда такая совместимость возникает, – это при установлении цены равновесия. Но все дело в том, что эти цены равновесия могут сложиться только в условиях рынка. План, сколько бы ни говорили о некоем «оптимальном планировании», практически сделать это не может.
Значит, если вы хотите выскочить из этой ловушки, остается одно: надо выбирать или одну систему, или другую. Если плановая экономика, как показала к тому времени сама жизнь, исчерпала свой потенциал, надо делать усилие и переходить к развитию рыночной экономики. Эти мои соображения о пагубности попыток улучшить плановую систему, внедряя в нее некоторые рыночные элементы, продемонстрировали принимаемые в 1987–1988 годах законы, призванные, казалось бы, оживить советскую экономику, прежде всего Закон о государственном предприятии (объединении) и сопровождающие его постановления правительства. То же получилось в итоге и с законами о кооперации и об индивидуальной трудовой деятельности. Сейчас эти решения выглядят двусмысленными и разрушительными. Двусмысленность вытекает из желания совместить несовместимое, изменить реальность декларацией благих намерений. С одной стороны, основные идеи как бы продолжали то, что предлагалось и в 1965, и в 1979, и в 1983 годах, хотя уже можно было бы извлечь уроки из воплощения этих идей на практике. Все это было известно, и реализация этих идей в нашей системе носила разрушительный характер. С другой стороны, предприятиям позволялось гораздо большее, чем раньше, расширение самостоятельности. Но разрушительного было несравнимо больше. Особенно отмечу положение о выборности руководителей и вообще о производственной демократии. Ведь, при всех моих демократических убеждениях, я знаю, что есть сферы, где должно быть жесткое руководство. Вспомните, например, о великом нашем режиссере Георгии Александровиче Товстоногове, который говорил, что театр должен строиться по принципу «добровольной диктатуры» своего руководителя. Только тогда ему обеспечен успех.
Процессы, которые в результате пошли в советской экономике, вылились и в начало демонтажа планово-распределительной системы, и в разрушение управления экономикой как таковой. В общем, к началу 1990-х годов стало очевидно, что мы подошли к порогу, когда нужно было принимать очень серьезные решения, не оглядываясь ни на что, потому что все могло обернуться гораздо хуже. Это могло пахнуть и гражданской войной, и бунтами, и голодом и т. д. и т. п.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: