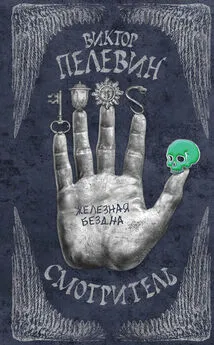Виктор Сиротин - Бездна
- Название:Бездна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449870940
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Сиротин - Бездна краткое содержание
Бездна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Почти всегда не к месту и никогда к смыслу, он Львом Толстым и Сенковским проходится по бедному Пушкину с тем, чтобы самого Толстого забить цитатами из Прудона, де-Местра и Бокля. Распустив павлиньи перья из цитат, от которых у читателя рябит в глазах, Эйхенбаум, почистив пёрышки, в Лескова выстреливает мыслями А. Скабичевского и М. Меньшикова. Силком втягивая писателей в свои интрижки, бойкий литератор даже и не пытается выглядеть прилично.
Что делать?! Не в состоянии постигнуть глубину текстов, не умея оценить и не особенно ощущая силу и богатство Слова, критику только и остаётся, что цитатами других заполнять пустоты своего мышления. Но художественное Слово существует независимо от умственных возможностей исследователя. Потому фрагменты эти, вопреки обрезаниям и препарированиям, продолжая содержать в себе яркие мысли и образы, подобно жерновам, без труда перетирают посреднические комментарии критика – жиденькие и никчёмные.
Относительно отсутствия в творчестве поэта «новых путей» и использования им «готовых материалов» скажем, что Эйхенбаум далёк был от творчества как такового, а то бы ведал, что процесс созидания неразрывно связан со всем предшествующим опытом – мировым, если художник гений, или региональным, если не является им. Поэтому тем, кто хочет выделиться, ничего не остаётся, кроме как «скакать» зигзагами, совершенствоваться в зауми или блудить со «смыслами», что, не имея никакого отношения к Лермонтову, целиком и полностью относится к Эйхенбауму.
И всё же, закрыв глаза на явное злоупотребление чужими текстами, Эйхенбаума можно было бы назвать сносным текстологом, если б он знал, для чего прибегает к этим самым текстам… Но, упиваясь собой, Эйхенбаум только себя и видит, а потому всякий раз скатывается в своих опусах к некому суррогату, который можно назвать литературоведением для себя. Это когда, начиная с писателя, продолжаешь о себе – драгоценном, текстологически эрудированном и в этом смысле даже более ценном, нежели исследуемый автор… Таким образом, того, может, и не желая, Эйхенбаум стал у истоков «течения», которое, будем честны, надолго пережило его самого.
Имитируя анализ творчества Достоевского и Толстого, этим же незадолго до Эйхенбаума и Ко. грешил другой «писатель о русской литературе» – Лев Шестов, которого Толстой, разглядев в нём бытовое лакейство, с иронией назвал «парикмахером». Таковые оценки, заметим, ничуть не смущали шествующих в Россию «парикмахеров», ряды которых полнили портные, фармацевты и прочие.
Выходцы из малороссийских и бывших польских местечек, как только освоили разговорный русский язык и научились писать «на ём», отложили в сторону «химию», ножницы и портняжное шило и, выплюнув изо рта гвоздики, взялись толковать русскую культуру, загружая не особенно понятный им русский язык заглавными сокращениями, жаргоном и прочими «терминами». Таким образом, «партизаны от литературы», освоив новое ремесло, ловко «маскировались всегда либо под русских „классиков“, либо под русских правдолюбцев, чтобы, получив у русских простаков „признание и авторитет“ (навязанные нередко из-за рубежа), держать самих русских в слепоте и неволе, укрепляя инородчество повсюду и паразитируя на русском народном теле „ввиду уже своего особого положения“», – писал в «Русской смуте» А. Кротов.
Казалось бы, зачем? К чему поганить язык великого народа, и без того неоднократно оболганного в пристрастных «исследованиях»?
Затем, видимо, что несёт он в себе тот образ, который источает свет души человеческой; хоть и надломленный, но исходящий из уникального состояния духа и честного сердца. Именно состояние души относит русский народ к числу тех, кто ещё в состоянии вдохнуть жизнь в изнемогающее от гари и пыли урбанизированное человечество. Переделывая на свой лад русских классиков, именно эту духовную свечу норовят погасить поколения «парикмахеров» и эстрадных хохмачей. Не ослабев в желании не мытьём, так катаньем избавиться от не своих духовных ценностей, хохмачи и циники объединёнными усилиями умело переливают в своих сочинениях из пустого в порожнее, простое представляют сложным, а сложное совершенно непонятным. Таким образом, сорные «филологии» вырождались в кладбищенские растения, и духом и цветом дурманящие сознание людей.
Но только ли в «науке о литературе» дела обстоят столь плачевно?Увы, не только. Мёртвой хваткой впились в культуру России невзлюбившие её ерофеев войновичи, познерствующие медиамагнаты и эстрадные «фольклористы на час». Последних повсеместно сменяют всё новые и новые персонажи «истории и культуры», в число которых вошли производители серийных монументов.
К примеру, на протяжении многих лет, пользуясь невежеством «городских голов», в Златоглавой победно шествуют монстры «вечного Зураба», который, словно издеваясь над обществом, «творит» в наименее знакомой для себя ипостаси.
Казалось, не выдерживая масштаба и не соизмеряясь с пространством, гигантские колоды должны пасть под давлением общественности. Ан, нет! И с благословения «голов», «отцов русской демократии» и министров попранной культуры, церетелизация Страны продолжается, бездарности резвятся на отведённых им площадях, а подлинные таланты гниют в подвалах. И не мудрено: веяниям нового времени соответствуют его кумиры. Вдохновляемая лукавыми диссидентами и сутулыми интеллектуалами именно эта публика охотно рядится в реквизиты романтических страдальцев, «героев» и «гениев».
Нечто подобное происходит и в поэзии. Выделив из «толпы» поэтов Иосифа Бродского, увидим, что с его амбициями может спорить лишь его неприязнь к России – и к той, «которую мы потеряли» и «которая его посадила», и к неповинной в том исторической России.
Выдающийся поэт Юрий Кузнецов очень точно охарактеризовал утерявшего внутренние стимулы русскоязычного «второго Пушкина»: « Поэзия Бродского – имитация, его надо переводить на русский язык, русское мышление ».
Но почему? В чём проблема?
В том, что перевести его стихотворения на русский язык, как и на любой другой, очень даже сложно, ибо не перекликается такого рода поэзия ни с душой народа, ни с его культурой, ни с содержанием. Книжная душа Бродского способна «переводить» лишь умозрения, да и то сухим языком «технической» поэзии. Не имея тяги к народному, и по-настоящему не предрасположенный к классическому наследию, не понимая своеобразия национальной культуры, кроме как известной, наверное, только ему, Бродский не мог ценить и традиции. При духовной всеядности (т. е. бездуховном приятии всякой формы «слова») автор, или, как в данном случае, «человек Вселенной», может существовать лишь в лысом поле псевдокультуры, выраженной здесь в «голом (опять же – техническом ) тексте» стихотворений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: