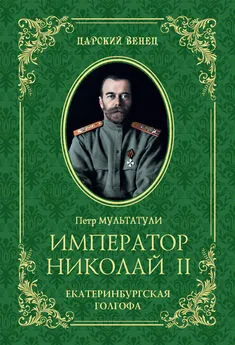Петр Мультатули - Свидетельствуя о Христе до смерти… Екатеринбургское злодеяние 1918 г.: новое расследование
- Название:Свидетельствуя о Христе до смерти… Екатеринбургское злодеяние 1918 г.: новое расследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7869-0063-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Мультатули - Свидетельствуя о Христе до смерти… Екатеринбургское злодеяние 1918 г.: новое расследование краткое содержание
Мы не знаем, что пережили они – Господь судил им более года томиться под арестом, в заключении, в полной безвестности, в атмосфере ненависти и непонимания, с грузом ответственности на плечах – за судьбы Родины и близких. Но, претерпев попущенное, приняв всё из рук Божиих, они обрели смирение, кротость и любовь – единственное, что может принести человек Господу и самое главное, что угодно Ему.
Труд Петра Валентиновича Мультатули – историка, правнука одного из верных слуг Государя, Ивана Михайловича Харитонова, – необычен. Это не научная монография, а детальное, скрупулезное расследование Екатеринбургского злодеяния.
Цель автора – по возможности, приблизиться к духовному пониманию происшедшего в Ипатьевском Доме.
В работе использованы материалы архивов России и Франции. Многие документы публикуются впервые.
Свидетельствуя о Христе до смерти… Екатеринбургское злодеяние 1918 г.: новое расследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
М. Сафонов считает, что текст «отречения» был вписан на бланк царской телеграммы с уже имевшейся подписью Царя и министра Двора графа Фредерикса. О каком же «историческом документе» может тогда идти речь? И что было сказано в подлинном тесте манифеста, который Император Николай II передал в двух экземплярах Гучкову и Шульгину, о чем имеется запись в дневнике Царя, если только, конечно, и дневник не подвергся фальсификации? «Если "составители" Акта отречения так свободно манипулировали его формой, – вопрошает Сафонов, – не отнеслись ли они с той же свободой к самому тексту, который Николай II передал им? Другими словами, не внесли ли Шульгин и Гучков в текст Николая II принципиальных изменений?»
Однозначных ответов на эти вопросы сегодня дать нельзя. Но также совершенно невозможно говорить о каком-то «отречении» Николая II от престола, тем более о «легкости» этого «отречения». Совершенно понятно, что ни с юридической, ни с моральной, ни с религиозной точки зрения никакого отречения от престола со стороны Царя не было. События в феврале-марте 1917 года были не чем иным, как свержением Императора Николая II с прародительского престола; незаконным, совершенным преступным путем, против воли и желания Самодержца, лишением его власти. «Мир не слыхал ничего подобного этому правонарушению. Ничего иного после этого, кроме большевизма, не могло и не должно было быть» 110.
Поставленный перед лицом измены генералитета, который почти в полном составе перешел на сторону заговора, Николай II оказался перед двумя путями. Первый путь был следующим: обратиться к армии с приказом защитить его от собственных генералов. Но что это означало на деле? Это означало, что Царь должен был приказать расстрелять практически весь свой штаб. Но, во-первых, это было немыслимо по соображениям государственной безопасности: перед судьбоносным наступлением разгромить собственную Ставку было равносильно военному крушению русской армии. Не говоря уже о том, что подобные действия оказали бы сильное деморализующее действие на войска [2] Общеизвестно, что репрессии 30-х годов против руководящего состава РККА, проведенные Сталиным, оказали деморализующее влияние на Советскую Армию, хотя репрессированные военачальники (Тухачевский, Якир, Блюхер) были заменены более выдающимися (Тимошенко, Жуковым, Рокоссовским). Но сам факт расстрела армейского верховного командования, даже обличенного в заговоре и планах государственного переворота, произвел удручающее впечатление на военные массы, особенно на командный состав. Если репрессии против красного командного состава, проведенные за четыре года до войны, встретили у определенной части офицерства неприятие и даже противодействие, что не преминуло сказаться на ходе боевых действий в 1941 году, то легко себе представить, что произошло бы в марте 1917 года, пойди Николай II в разгар боевых действий на подобные репрессии. – П.М.
. Во-вторых, не надо забывать, что Царь был фактически пленен собственными генералами. Царский поезд охранялся часовыми генерала Рузского, который один решал, кого допускать к Царю, а кого – нет. Вся корреспонденция, направляемая Императору, контролировалась генералом Алексеевым. «Хотя реально, – пишет О.А. Платонов, – связь между Государем и Ставкой армии потеряна не была, генерал Алексеев, по сути, отстранил Царя от контроля над армией и захватил власть в свои руки» 111.
Понятно, что в таких условиях генералы не дали бы Царю предпринять против себя никаких репрессивных действий. Император, «соединявший в себе двойную и могущественную власть Самодержца и Верховного Главнокомандующего, ясно сознавал, что генерал Рузский не подчинится его приказу, если Он велит подавить мятеж, бушующий в столице. Он чувствовал, что тайная измена опутывала его, как липкая паутина» 112.
Можно было послать войска в Петроград. Но против кого? Царь ясно понимал, что беснующиеся праздношатающиеся толпы так называемого «народа» легко разгоняются двумя верными батальонами. Но в том-то и дело, что главные заговорщики были не на улицах Петрограда, а в кабинетах Таврического дворца и, что самое главное, в собственной Его Величества Ставке. Армия, в лице ее высших генералов, предала своего Царя и Верховного Главнокомандующего. Лев Троцкий впоследствии злорадно, но справедливо писал: « Среди командного состава не нашлось никого, кто вступился бы за своего царя. Все торопились пересесть на корабль революции в твердом расчете найти там уютные каюты. Генералы и адмиралы снимали царские вензеля и надевали красные банты. Каждый спасался, как мог» 113.
Таким образом, насильственное разрешение создавшегося положения, в условиях изоляции в Пскове, для Царя было невозможно. «Фактически Царя свергли. Монарх делал этот судьбоносный выбор в условиях, когда выбора-то, по существу, у него не было. Пистолет был нацелен, и на мушке была не только его жизнь (это его занимало мало), но и будущее страны. Ну а если бы не отрекся, проявил " твердость ", тогда все могло бы быть по-другому? Не могло. Теперь это можно констатировать со всей определенностью » 114.
Оставался второй путь: жертвуя собой и своей властью, спасти Россию от анархии и гражданской войны. Для этого надо было любой ценой сохранить монархию. Царь понимал, что от власти его отрешат в любом случае. Отдавать своего сына в цари мятежникам Царь не хотел. Оставалось одно: передать престол своему брату – великому князю Михаилу Александровичу. Этим шагом, с одной стороны, Царь показывал всю незаконность происходящего, а с другой, выказывал надежду, что новому императору из Петрограда будет легче и справиться с крамолой, и возглавить новый курс руководства страной. То, что это было твердо принятое решение, говорит телеграмма Государя на имя Михаила Александровича: «Его Императорскому Величеству Михаилу. Петроград. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот шаг. Прости меня, если огорчил Тебя и не успел предупредить» . Кстати, эта телеграмма не была передана великому князю Михаилу Александровичу.
Но великий князь совершил поступок совершенно неожиданный для Николая II: вместо организации отпора мятежу, он передал всю полноту власти в руки мятежников. « Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!» – записал Государь в своем дневнике 3-го марта 115. « Государь выразил Свое глубокое огорчение как отказом Августейшего Брата взойти на престол, так и формой, в которую он был облечен » (В.Н. Воейков) 116.
Узнав о поступке брата, Император Николай II пошел на еще большую жертву во имя России: он был готов отдать ей своего Сына. Уже по пути в Могилев, Николай II вызвал к себе генерала Алексеева и сказал ему: «Я передумал. Прошу Вас послать эту телеграмму в Петроград ».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
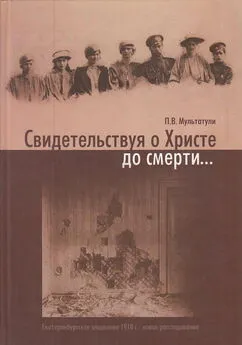
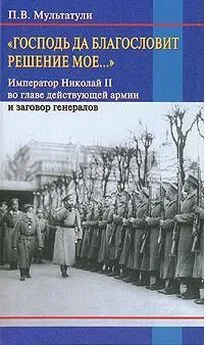


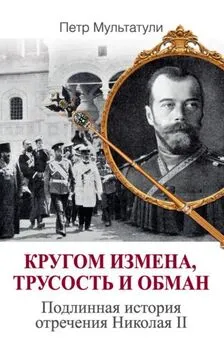
![Рэндалл Гаррет - Лорд Дарси [ Магия и смерть. Слишком много волшебников. Новые расследования лорда Дарси]](/books/562763/rendall-garret-lord-darsi-magiya-i-smert-slishko.webp)

![Петр Мультатули - «Ледокол» для Наполеона [Лживый миф о «превентивной войне»]](/books/1094132/petr-multatuli-ledokol-dlya-napoleona-lzhivyj-mi.webp)