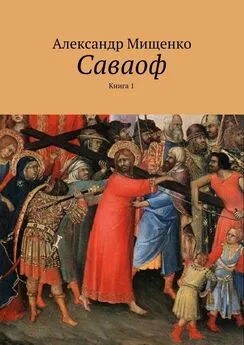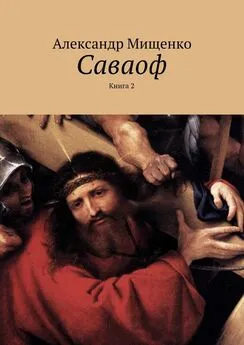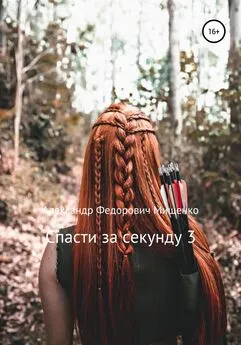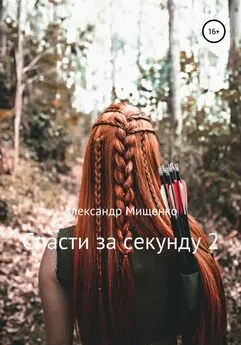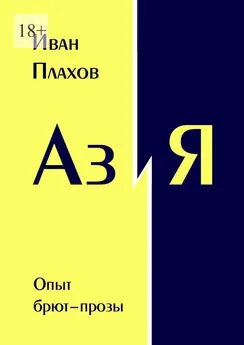Александр Мищенко - Как служить Слову? Манифесты. Опыт реминисцентной прозы
- Название:Как служить Слову? Манифесты. Опыт реминисцентной прозы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449829955
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мищенко - Как служить Слову? Манифесты. Опыт реминисцентной прозы краткое содержание
Как служить Слову? Манифесты. Опыт реминисцентной прозы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выступили мы, литературно-музыкальная команда, в Челюскинцах на встрече с селянами. Помимо стиха Олега Дребезгова о тете Клаве, что «мир вехоткой чистит», звучали строфы русоголового поэта с нежной певучей душой и о дальней его родственнице бабушке Матрене, венчанной с болью неминучей, горючей слезой и поминальной песней.
У бабушки Матрены мы побывали днем, накануне литературного вечера. Домочек ее в деревеньке Михайловке стоит как раз напротив такого же небольшого и ладного, как груздок, домика с голубыми ставнями, в котором жил Ермаков.
С первого взгляда и в голову не ударит, что бабушка Матрена почти незряча. Глаза у нее большие, выпуклые и будто напитаны солнцем.
Она смиренно опустила руки на колени и рассказывает о своем соседе-писателе:
– Када оны прибыли сюда, оны тут родилися. Потом оны уезжали в Петропавловск. Оны жили там, а потом, када отца в войну вбили, оны сюда возвернулись. Жердяночку вон там сделали себе. Жердянку спроворили, значит, вымазали. И с улицы, и оттыдва, с туей стороны, ага. Ну, жили в ей. Жили так и жили. Ну, он-то Иван маленечко ободрел, работать стал, ага. И здесь жил, жанился. Жили оны бедно. Ну, коровенку держали, свиненку. Потом Иван стал ходить на ферму к нам. Я доила, ага, он шутит нам поплетушки всякие. Просит спеть песню «Скакал казак через долину». Ну, мы ету спели ему. Вдругорядь еще одну – «Не губи меня». И энту, как ее? Ой, тятенька, а где, скажи, мамонька. Наша мамонька в новой горенке. Белится и румянится, в светлое платье снаряжается. Начиналось же, как ревнивый муж вел жену топить. Блудная была, видно такое либералу, вишь, не нравилось , и порешил он ее. Детки поняли все и заголосили: «Встань наша мамонька родная! Из зеленого садику, из дубового гробику». Поем мы. А у Ивана слезки выкатываются, уревелся сердешный – таку мы ему жаль придали. Позабыла, как скраю мы припевали, а Иван тут в подпевках был. Стара уже, ума нет. Спели мы, значит. Он все писал, шутил нам, ага. Ну, потом спрашивает. Как вот вы какурузу на силос косите? Так и косим, возим сами на быку, на быку возим. Людей нету-ка, всех побили на войне, ага. И силосуете сами? Сами. А зимой как? В крик и рев в морозы доходило, трубим-голосим да возим и коров кормим. Кормим да и все, ага. Ну, вот он все писал, писал да писал и разные словца среди нас в свои книжки цеплял. Веселый всегда. Как солдат в туей сказке…
Для солдата Ермакова «туей сказкой» жестокой стала Великая Отечественная война.
Спустя много лет после войны Иван Михайлович написал по случаю:
«…Он лежал у меня в уголке вещмешка, разъединственный мой сухарь из НЗ, из солдатского неприкосновенного запаса.
Помню, рыженький-рыженький был… Табачинки, помню, на нем.
Я был голоден много часов, помню, сьел его неразмоченным.
А наутро была контратака врага.
И я высек наутро оружием моим синюю искру из подвзошно нацеленной вражеской стали, и приподнял чуть-чуть на штыке от земли я врага моего и одолел».
Сколько ж боли вбирали в себя раскаленные, как жаркая кузнечная поковка, слова Ивана Михайловича, когда писал он о восемнадцатилетних бойцах-сибиряках: «Сержанты лишь до полудня звались сержантами. После полудня те немногие, кто не стал еще мертвым телом, звались уже пленными. По фляжке воды на войне не успели выпить…» Золотых высот древнерусского эпоса достигало его Слово о них: «…За тремя рядами колючей проволоки, за собачьими кликами, за голодными студеными лесами восходит кровавое русское солнышко. По утрам, случалось, видели они его. Там Родина. Снились радуги. Далеки, далеки, высоки и чисты безмятежные радуги детства. Отпылали они, откудесили… Вне закона, вне Родины. Безымянная серая нежить с номером на груди…» А сколько их, пахарей сибирских, бесценными зернами нашей Победы пали под огненный лемех войны…
Один из сибирских его боевых друзей байкалец из Больших Котов Алеша-Добрыныч, как его звали, с соломенно-золотистыми вихрами, умирал на глазах Ермакова. Он приподнял голову на мгновение (хоть на полмолодца – да превыше беды) и прошептал воспаленными, в сукровице губами, принимая смерть праведную: «Хочу побыть птицею, Ваня, пролететь над Россией и покружить на прощание над скобою лунною Байкала-моря, над родным селением». Трудно выдавливал он из себя слова, и острый, как соловушкин клюв, кадык дергался вдоль горла умирающего Алеши Добрыныча. Был он плотником по мирным своим делам и слушал, быть может, сознанием, как ударяют весело топоры, перестуки-стуки их льются, как щепа брызжет, дерево поет – перезвяки-звяки-звяки. А сок пырскнет из комелька, и зажигается белая радуга… Так мечтал солдат снова плотничать после войны, дома строить крестовые, терема. «Пушка – дура, на войне голосит, – говорил он, – а топор, что звон птичий, никогда на земле не смолкнет, топор топора родит». Вместе в атаку бросились с Ермаковым они, и знал Иван Михайлович, когда, ставши писателем, напутствовал земляка-новобранца на проводах в армию: «На смерть идут, сынок, – „ура“ плачет. На глазах у меня случилось, что рванул на груди гимнастерку товарищ перед мчавшимся на него „тигром“, и пуговки только брызнули. Кинулся он потом к танку. Гранате перед взрывом кольцо надо выдернуть, а русскому – душу от пуговок освободить…» Это за него, за Алешу Добрыныча и всех павших бухал неистово в колокол взводный из «сибирской роты» Иван Ермаков. Случилось такое событие в победный май сорок пятого. Часть его стояла под Кенигсбергем где-то. А рядом была церковка. Поминал Иван друзей, и так горько на душе у него стало, что, отставив в сторону опорожненную чарку, ринулся он на колокольню и грохнул в колокол, и зарыдал над тихим городком проснувшийся от огня Ермаковой крови колокол. Заполошно, с подголосками гудел колокол, и казалось Ивану, что несутся это над Россией голоса всемилых его друзей и товарищей, брата его и отца, которые тоже головы сложили в боях с фашистами.
И много лет теперь кричал он с подголосками заполошной своей душой. Неистово бухал в колокол Князь Сибирский за павших, сомкнувших свинцовые тяжкие веки свои. И набрунивался лоб его с семью осколками, просинью видневшимися через кожу. Выстукивало сердце Ермака молоточками: «А я люблю товарищей своих!» (Словами, может, не знаемой им Беллы Ахмадулиной). Жили они в сказах его, честные сибирские пахари, рухнувшие под огненный лемех войны между Черным морем и Северным, между Волгой-рекой и речкою Шпрее. О них это у Расула Гамзатова:
Кто нас, убитых, омоет водой?
Кто нас, забытых, покроет землей…
Бухал теперь в колокол Ермак, возвращая души товарищей боевых в праздничную осеннюю пору, к тихим блескам ее, к затемненным сизой крепью лесам сибирским и пашням, где сверкал пером грач, тоненько искрила паутинка, ярой медью сгорал неотболелый еще березовый лист, тускнел черными бликами отглаженный зеркалом лемеха пашенный пласт – даже стерня лучики испускала. Взыскующе глядел он на эту нивку и вопрошал черные зяби и рыжие жнитва: «Не тебя ли, Поле, они пахали? Отзовись жаркими капельками пота, втаявшими в твою истомленную черную ненасыть! Затепли их тихими свечками!». «А ты, светлый Лес? – изливалась Ермакова душа. – Неужто забыл?! Ты поил их сладким и чистым, как соловьиные слезки, березовым соком? Не твои ли сторожкие иволги озвонили первотропки босые их? Не отряхивали ли хохотуньи-кукушки волглые, росные крылышки над нерасцветшими подсолнышками их голов?». «А ты, Деревенька-баюшка, локтями которую можно перемерить! – вздымало грудь Ермака поминальной болью. – Не светилась ли ты золотинкой сыну своему, солдату сибирскому в самые трудные дни тяжкой и многокровной войны, когда изнемогали тело и душа его? Не полыхали в лихорадочном беспамятстве ли перед взором его высокие и безмятежные радуги детства? Не ему ли, не чаявшему увидеть тебя, клятвенно приходили слова: «Целовал бы и ел траву твою – подорожник… Колышком бы встал в твою поскотину… Зернышком бы пал под лапки твоих голубей…» И к небу взывал Ермак: «Господи, помоги мне найти такие слова, что б духмяные были они, как цветы, сверкали бы, как ордена на груди русского солдата!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: