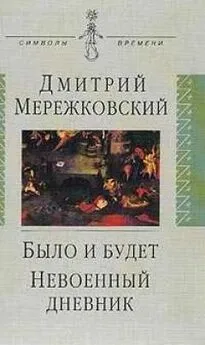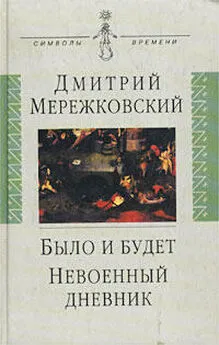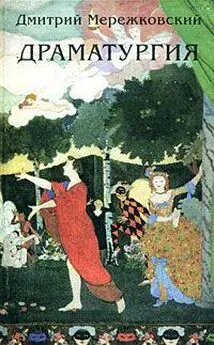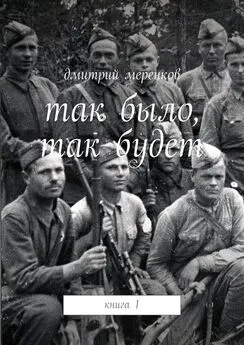Дмитрий Мережковский - Было и будет. Дневник 1910 - 1914
- Название:Было и будет. Дневник 1910 - 1914
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1915
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мережковский - Было и будет. Дневник 1910 - 1914 краткое содержание
Статьи, вошедшие в сборник, в большинстве своем написаны «на злобу дня», однако отражают они не только непосредственную реакцию автора на события литературной, религиозно-общественной, политической жизни начала 20 века, но и его раздумья о вечных исканиях духа, об «основных, всеобъемлющих, все решающих» для России вопросах.
Книга адресована всем, кто интересуется русской литературой, историей, религиозной философией.
Было и будет. Дневник 1910 - 1914 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Церковь у нас как бельмо на глазу. Забыли Гапона— возник Гермоген с Илиодором; забыли их — выскочил Распутин; [64] Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1872–1916) — крестьянин Тобольской губ., приближенный Николая II и его жены.
забыли Распутина — а тут опять Илиодор, и выборы духовенства в четвертую Думу, и Никон кременецкий, и собор, и патриаршество. За все XIX столетие, не говоря уже о XVIII, не бывало ничего подобного. <���…>
«19-го ноября, в день своего ангела, я сел за стол, взял лист бумаги и написал в Св. Синод отречение… Православная Россия! Отрекаюсь от веры твоей, от церкви твоей и архиереев твоих… Во свидетельство сего я разрезаю руку свою, беру кровь свою и ею расписываюсь: Илиодор».
Много сейчас говорят об Илиодоре, слишком много; бесчисленные газетчики жуют его, как повседневную жвачку, — пожуют и ничего не останется.
«Люди бывают славны, поскольку в них есть материал для славы, как дерево горит, поскольку в нем есть материал для горения» (Гёте). Слава — горение человека. Только очень редкие горят звездами; остальные вспыхивают искрами. Илиодор — не звезда, а искра. Сегодня помнят его, завтра забудут, и ничего не останется. Кажется, он это и сам знает.
«Дети мои возлюбленные! Знаю, что почти все вы отречетесь от меня».
Но предвидел ли он это, когда многотысячные толпы шли за ним и когда он мечтал, что пойдет за ним вся Россия? И что ж это за народ, который от одного начальнического окрика изменяет своему пророку? Призрачный вождь призрачного воинства: достаточно бюрократическому ветерку дохнуть, синодальному петуху прокричать, чтобы все рассеялось.
Народ изменил пророку, «народ безмолвствует», и церковь тоже. Синод сделал свое дело, и сколько бы ни отрекался Илиодор от архиереев, от церкви, от христианства, от Христа, от Бога — Синод этим не смутится. Одним монахом больше, одним меньше — никому от этого ни тепло, ни холодно. А для монаха лишение сана — лишение всего. Ряса не одежда, а кожа. Снять рясу — снять кожу. Но как истончилась, износилась эта кожа: едва держится, сама слезает. Вчера православный монах, сегодня «безбожный интеллигент». Одним интеллигентом больше — нам ведь от этого тоже ни тепло, ни холодно.
Илиодор мечтал соединить религию с политикой. Но как в искусстве все роды хороши, кроме скучного, так в политике — кроме глупого.
Между православием и самодержавием Илиодор заблудился, как между двух сосен. «Бог и царь, царь от Бога» — в этом была вся его религия, вся политика. Теперь, когда потрясена или разрушена первая часть исповедания («Отрекаюсь от Христа, как от Бога»), что будет со второй? Какой вывод сделает он из своей теперешней религии для политики? Никакого. Небо рухнуло, а земля не шелохнулась. Он думал, что его политика из религии; но, кажется, наоборот: его религия из политики. Теперь только обнаружилось то, что было всегда. Отречение Илиодора есть обнажение его подлинной религиозной сущности.
«Царь для народа — помазанник Божий, — говорит он („Правда об иером. Илиодоре“ И. Л., под редакц. Плетнева. Москва, 1911 г.). — Вспомните Грозного: он вешал людей, уничтожал целые города… и все-таки народ оставался верен ему…»
— Что прикажешь делать с евреями? — спросили однажды царя в Новгороде.
— Крестить.
— А как, добровольно или по принуждению?
— Добровольно, — ответил царь. — А кто не захочет — топить в Волхове.
«Защита веры только тогда действительна, когда она оканчивается гибелью врагов… Нужно выбирать между исповеданием веры и смертью врагов… Заповедь „не убий“ ошибочно понимается как запрещение всякого убийства… Православная церковь толкует ее очень широко… Церковь и государство не могут остановиться перед смертною казнью».
Даже «безбожному интеллигенту» ясно, что нельзя утверждать такой политики, не отрекшись от Христа, от Бога в сердце своем. То, что произошло некогда в сердце Илиодора, теперь происходит и в сознании, в уме его. Он от Христа не отрекается, потому что никогда со Христом не был. Остался там, где был.
Но теперь по крайней мере нет Бога, нет лжи и нет кощунства. Если бы те, кто с ним, последовали его примеру, можно бы только радоваться. Тайное сделалось явным. Для того, чтобы утверждать такую политику, какую они утверждают, надо от Христа отречься.
Недавно Д. Философов сравнил Илиодора с Булгаковым и нашел в них много общего, несмотря, разумеется, на большое различие в уме, в образовании, в «личной годности». П. Струве возмутился этим сравнением и попытался доказать, что никакой необходимой религиозной связи между православием и «черной реакцией» не существует. Кажется, впрочем, самого Струве занимает и волнует не столько религиозная, сколько политическая сторона вопроса. Вот именно тут, в самой жгучей точке современной русской политики — в отношении к «смуте» — совпадение Илиодора с Булгаковым так явно, что надо ослепнуть, чтобы этого не видеть.
В той же книге «Правда об иером. Илиодоре» сообщается:
«О. Илиодор в своих проповедях очень часто касается этого тяжелого для России (революционного) времени. Он говорит:
— То движение, которое подняли враги Царя, с самого начала было осуждено на смерть, потому что оно нe во имя Бога, а во имя сатаны… Вся революция была основана на грубом себялюбии и удовлетворении плоти… Грань между экспроприацией, грабежом и воровством стерлась, и люди, претендовавшие на звание народных героев, смешались с кучей самых обыкновенных мошенников и разбойников».
Не один Булгаков, но и все православные интеллигенты — «веховцы» могли бы подписаться под этими словами. Россия — «бесноватый», русские люди — «стадо свиней», в которое вошли «бесы», и которое бросается с крутизны в море, — этот символ Достоевского для Булгакова исчерпывающий символ. Подобно Илиодору, не проводит он никакой черты, разделяющей между святым и грешным, божеским и бесовским в русском освобождении; для него, так же как для Илиодора, не какая-либо часть бывшего, а все оно сплошь — «во имя сатаны». Булгаков умен, тонок, образован; Илиодор бестолков, груб, идейно безграмотен. Булгаков идет к церкви, Илиодор уходит из нее — тем более поразительна их встреча.
«Мы разговорились с одним из интеллигентных батюшек, — говорит Булгаков в своей статье „На выборах“ („Русск. мысль“, ноябрь 1912 г.), — и он нарисовал мне тяжелую, удручающую картину духовного состояния деревни… Самым значительным фактом жизни современной деревни является, по его рассказу, разложение старых устоев — религии, семьи, нравственности, быта, особенно же поразителен рост атеизма среди деревенской молодежи… Здесь обнаруживается прямое влияние интеллигентского нигилизма; в деревне обращаются книги агитационного содержания, безграмотная наша деревня узнает имена Ницше и Маркса, Ренана и Фейербаха… Батюшка рассказывал мне о хулиганских выходках в церкви, о злобном кощунстве. В России не было и нет культуры вне религии, и с разрушением ее остается варварство… Черная волна отчаяния и ужаса за Россию подымалась в душе моей… Россия гниет заживо… Она глубоко отравлена смертоносным ядом, и яд этот — нигилизм… Интеллигенция, следуя за своими учителями, верит в „дух разрушения, дух созидающий“, она из революции создала для себя религию, и мы уже видим эту религию в действии. („Люди, претендовавшие на звание народных героев, смешались с кучей обыкновенных мошенников и разбойников“, по Илиодору). Да, „святая Русь“ — мистическая реальность России, ее видели и осязали ее пророки, — заключает Булгаков, — но и это российское хамство, в котором мы задыхаемся, есть тоже мистическая реальность России. И как же одно соединяется с другим, как одно отделяется от другого?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: