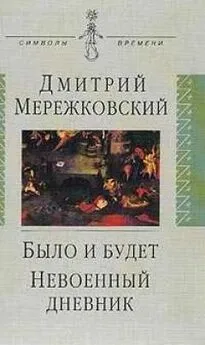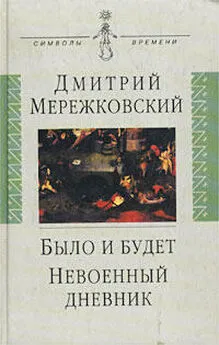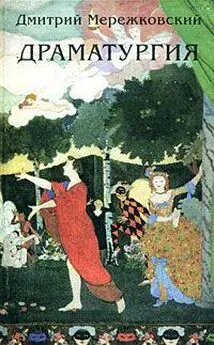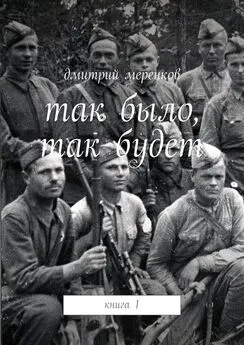Дмитрий Мережковский - Было и будет. Дневник 1910 - 1914
- Название:Было и будет. Дневник 1910 - 1914
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1915
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мережковский - Было и будет. Дневник 1910 - 1914 краткое содержание
Статьи, вошедшие в сборник, в большинстве своем написаны «на злобу дня», однако отражают они не только непосредственную реакцию автора на события литературной, религиозно-общественной, политической жизни начала 20 века, но и его раздумья о вечных исканиях духа, об «основных, всеобъемлющих, все решающих» для России вопросах.
Книга адресована всем, кто интересуется русской литературой, историей, религиозной философией.
Было и будет. Дневник 1910 - 1914 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ничего не вижу, вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего…
«Свиные рыла» тех «бесов», которые вошли в руское освобождение.
Два отречения: отречение Булгакова и прочих православных интеллигентов от интеллигенции, от революции; и отречение Илиодора от православия. Булгакову, же как Илиодору, кажется, что его политика — из религии; но у обоих одинаково — религия из политики. Поворотная точка в столь противоположных религиозных судьбах обоих — освобождение. Лицо «святой Руси» в православии и лицо «беса» в освобождении: «как же одно соединяется с другим, как одно отделяется от другого?» — вот вопрос, перед которым оба одинаково беспомощны. Оба смешивают бесноватого с Тем, Кто изгоняет бесов; оба говорят: в этом Человеке — бес. Но в хуле на Духа оба неповинны, потому что сами не знают, что делают, на Кого произносят хулу.
Может быть, Булгаков и прочие православные интеллигенты, отрекаясь от революции, в тайне совести чувствуют, что в русском освобождении не все «во имя сатаны»; но ни одним словом не обмолвились они, чтобы дать это понять.
«Нет труднее задачи, как с умом и совестью быть политически правым, имея даже самую правую идеологию!» — восклицает Булгаков. Что значит этот крик «отчаяния и ужаса» не только за Россию, но и за себя самого? Не то ли именно, что разумел Философов, сравнивая Булгакова с Илиодором: человеку с религиозным сознанием и с религиозною совестью нельзя, оставаясь в православии, не видеть, что оно связано с «черной реакцией»? Уж если это Илиодор почти увидел, то как же не видеть Булгакову?
Я не знаю, что думает он сам о своем совпадении с Илиодором и так же ли, как Струве, возмущен статьей Философова. Но, кажется, возмущение Струве не основательно, не метафизично и не религиозно. Между ним и Булгаковым мало общего в отношении к религии вообще и к православию в частности.
Православие для Струве не столько религиозная, сколько культурная и политическая ценность — предпосылка «Великой России». Он понимает, что без внешнего церковного общения не обойтись государству; но для него самого, как для идеалиста чистейшей воды, церковь — явление того «богоматериализма» (выражение Вл. Соловьева), который кажется ему кощунственным. «Царствие Божие внутри вас» — вот все, что он может взять из христианства. Это основание для протестантских или сектантских общин, но не для церкви. От религиозного идеализма к религиозному реализму у Струве нет путей.
Может быть, у него не хватило бы духа сделать религию орудием политики, церковь — подножием «Великой России» с тем откровенным цинизмом, с которым это делают нигилисты-политики «старого порядка». Но во всяком случае такое положение относительно религии двусмысленно и недостойно человека, для которого религия хотя бы только «дело личной совести».
Ложное соединение Струве с Булгаковым ничего не может породить, кроме бесчисленных недоразумений и вреда для обоих. Что же, однако, соединяет их?
Оба они — бывшие марксисты, созидатели той самой революционной идеологии, которая теперь одному кажется бессмысленной, а другому «бесовскою». Не исповедание православия, а отречение от революции — вот что соединяет их. Не общая любовь, а ненависть. Гнев Струве на Философова, праведный или неправедный, есть не что иное, как скрытая боль, скрытая тяжесть этого отречения.
«Чему посмеялся, тому поработаешь»—это тяжело; но еще тяжелее смеяться тому, чему поработал. Струве и Булгаков — слишком благородные люди, чтобы назвать их «отступниками» в ином смысле, чем благороднейшего из римских кесарей Флавия Клавдия Юлиана. Но даже в этом смысле тяжело быть отступником.
Вот откуда боль, вот откуда гнев.
У Илиодора есть одно удивительное признание: «Революции без Бога не страшны». Не страшны, потому что невозможны в России. Ну а с Богом страшны? С Богом возможны? Илиодор над этим вопросом не задумался. Булгаков тоже. А между тем дальнейшие религиозные судьбы обоих только и может решить ответ на вопрос: освобождение России без Бога не удалось; не удастся ли с Богом?
Два отречения, Илиодора и Булгакова, — два крика одной боли, религиозной боли всей России.
РЕЛИГИОЗНОЕ НАРОДНИЧЕСТВО
— Вы верите в Бога?
— Не верю.
— А все-таки во что-то верите?
— Может быть… да… нет… не знаю.
— Никогда об этом не думали?
— Не думал.
— Как же так: верить и не знать, во что веришь? Ну, сделайте же усилье, подумайте.
— Ах, отстаньте, ради Бога! И без того тошно, а тут еще вы с вашею верою.
Вот разговор с неверующим религиозным человеком наших дней — с русским в особенности. Что неверующие люди могут быть религиозными — это явление такое общее, что стоит на него указать, чтобы сделать видимым. Но и обратно: верующие или как будто верующие могут быть не религиозными; это в наши дни явление столь же общее. Между верою и ее обнаружением, исповеданием, сознанием — какая-то преграда неодолимая. Видно, что человек верит, а во что — не видно. Вера не хочет быть видимой, не хочет быть сознанной. Вера без слова, без имени. «От избытка сердца уста говорят» — так было; а теперь — молчат.
Вера в душах человеческих светит, как пламя лампады сквозь занавес. Таинственная занавесь; святые покровы, заповедные. Не человеком наложены, не человеком и снимутся. А пока не снимаются — снимать не должно. Молчание для веры то же, что защищающий занавес для пламени, а слово — что ветер; слабое пламя ветром гасится, сильное — сильнее раздувается. Не должно снимать завесу до времени; но, кажется, время близко, когда пламя обнажится.
Вот какие мысли внушает книга В. Богучарского «Активное народничество семидесятых годов». Книга замечательная, хотя и мало замеченная, даже не прочитанная как следует, может быть, отчасти по вине автора.
Чтобы ясно изобразить, надо видеть ясно. А он видит неясно, потому что смотрит на вещи не прямо, не лицом к лицу, а сбоку; сбоку или даже сзади, за спиной у него что-то мелькает, маячит огромное, и он сам не знает, что это — марево или действительность.
«Активное народничество» значит революционное. Но по тайному смыслу книги можно бы ее озаглавить полнее: «Революционное и религиозное народничество». Соединение этих двух слов — революция и религия — все еще режет ухо, кажется противоестественным. Но что соединение возможно, что оно неизбежно, доказывает книга Богучарского. Оно-то и есть то огромное, за спиной у автора стоящее, мелькающее, маячащее, неясное и неотразимое, что делает книгу его знаменьем времени.
«Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю… Я верю в истинность этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых и если нужно, то за них и пострадать. Такова моя вера», — отвечал глава народовольцев Желябов на предложенный ему председателем суда в 1881 году вопрос о вероисповедании.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: